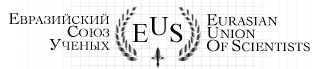В процессе эволюции симфонического творчества А.Г. Шнитке у Мастера постепенно вырабатывался новый тип симфонизма, обозначенный нами, как «конфликтно-морфологический». Он явно постепенно формировался с самого начала его симфонического макроцикла. Она основана на явно выраженной конфликтной драматургии с противопоставлением образно-интонационных сфер. Однако ее ткань прослаивается действием жанров и интонаций-символов морфемно-лексемного типа, число которых столь велико, а их роль столь существенна, что концепция, кроме изначального, обретает еще целый ряд смыслов.
В основу Третьей была положена идея истории немецкой музыки[1], и в качестве достаточно кратких символов легли 33 музыкально зашифрованных монограмм от Баха до М.Кагеля[2], а также важнейшие смысловые символы, такие, как Das Bоse («Зло») или «Erde» (земля), обертоновый и унтертоновый ряды и мн. др. Как некие морфемы, подготавливающие тип симфонизма позднего Шнитке, они как бы отвлекают внимание на себя и формируют новый уровень конфликта. При этом все они скрепляют основную драматургическую концепцию, основанную на противопоставлении восхождения и угасания, Жизни и Смерти
Наиболее ярко конфликтный морфологический тип симфонизма проявился в Шестой симфонии, которой не было уделено достаточного исследовательского внимания: в русскоязычной литературе: сравнительно небольшое место она занимает в монографии Дзюн Тибы [1; С.С. 93-98][3].
В то же время именно Шестая открывает немецкий период (1992) и поздний этап творчества нашего современника, служит истоком его последнего симфонического макроцикла (с Шестой по Девятую), который органично вписывается в общий массив симфоний, передающих, по сути, единую метаконцепцию автора. Это сочинение представляется рубежным, поскольку автор свершает здесь подлинные стилевые открытия.
Как и многим инструментальным драмам поколения шестидесятников — сочинениям Губайдулиной, Денисова, Сильвестрова, Канчели, Тертеряна, созданным в конце прошлого столетия, — Шестой Шнитке свойственна не просто неожиданность, но можно сказать парадоксальность драматургических взаимодействий. В Шестой возникает, казалось бы, необъяснимое или, по крайней мере, чрезвычайно странное явление: в явно драматической музыке, которая немыслима без драматического конфликта, непонятно, что с чем конфликтует[4]. И это — главное своеобразие Симфонии, некая ее шифровка, камуфляж, за которым скрывается предельно острый трагедийный смысл.
Задача разрешения парадоксального феномена, можно сказать, загадки Шестой непроста, поскольку главное свойство конфликтной драматургии любой инструментальной драмы — противопоставление образных сфер — здесь настолько видоизменено по сравнению с классическими образцами, что его достаточно трудно уловить.
Однако возникающее ощущение образной однородности обманчиво. Сквозное действие, отточенное двумя с половиной веками развития жанра драматической симфонии, но крайне усложненное сильнейшим акцентом на морфологических качествах свершающегося интонационного процесса[5], здесь все же сохраняется. «Изгнанное за дверь (морфологичеким типом драматургии — И.Н.), оно тут же возвращается в окно»[6].
Итак, в Шестой (как в Седьмой и Восьмой) органично сочетается, казалось бы, несовместимое: напряженная конфликтная драма и морфологический тип симфонизма, при котором сложно представить, что именно выполняет функцию «действующих лиц» и какова их роль. Ведь семантически значимыми оказываются самые разные, порой достаточно мелкие частицы (морфемы или лексемы)[7]. При этом они не рядоположены. Среди них: характерная интонация, риторическая фигура, монограмма, стилевая аллюзия, отдельный аккорд, ритмический элемент. Иногда это жанр, тембровая или тональная краска, манера звукоизвлечения и многое другое. Поведение этих «героев» весьма своеобразно, поскольку на протяжении драматического действия они часто меняют свое смысловое значение. Подобно тому, как части речи в грамматике составляют предложения, выражающие разные мысли, «герои» симфонии свободно переходят из одной образной сферы в другую, включаясь в смысловые поля с различными и даже противоположными значениями. Именно такой тип симфонизма — конфликтно-морфологический — отчетливо проявился в позднем творчестве Шнитке и стал драматургически-стилевым открытием композитора.
Как же в этих условиях достигается напряженная конфликтность и разворачивается симфоническая трагедия?
Композиция и драматургия (уровень синтаксический).
Основа композиции Шестой — волновой принцип развития, трактованный крайне непривычно. Сопоставление anabasis и сatabasis[8] как фигур высшего порядка многократно воспроизведено в волнах нарастания Allegro moderato (первая часть) и всего цикла. Индивидуальное своеобразие заключено здесь в том, что волны идут «поперек» разделов формы, а риторические фигуры меняют свой характер: anabasis далеко не всегда обладает изначально присущей ему семантикой восхождения к Свету, как и сatabasis, в котором реже anabasis’а, но тоже иногда трансформируется типичный смысл погружения в бездну. И подъемы, и спады в этой симфонии тяготеют к мрачным краскам.
По мере продвижения Allegro moderato волны становятся все меньше, а степень их напряженной конфликтности неуклонно возрастает[9]. Наиболее острые трагические кульминации оттянуты к концу: реприза-кода — в начальном Аllegro[10], финал — в цикле.
Уникальность композиции Шестой — в структурном усечении первой части, музыкальный материал репризы и коды которой перемещен в репризу и коду Финала[11]. Оригинальное «замыкание» циклической формы (за счет «размыкания» начального аllegro), точно так же, как реминисценция генеральной кульминации первой части в Финале и мн. др., связано с индивидуальной спецификой поэмных принципов у Шнитке. Сама же склонность к поэмности в большой мере обусловлена глубоко личностным отношением к сущностным проблемам, лежащим в основе художественно запечатленной картины Мира (по афористическому выражению Ф. Листа, поэмность — это «проекция личности в мир». [4; С. 312].
В содержании Симфонии многое объясняет интонационно-драматургическая перекличка с Шестой Чайковского. Возникая на мотивно-интонационном уровне в главной парии первой части, она проявляется и в цикле, где чрезвычайно своеобразно законспектирован драматургический путь «Патетической»: от преддверия смерти к факту ее свершения.
Не менее важна в концепции Шнитке связь с Четвертой Брамса. При этом смысловой путь последнего симфонического опуса немецкого романтика — от элегии к трагедии — в соответствии с проблематикой современной жизни глубоко переосмыслен автором конца ХХ столетия в путь от трагедии к катастрофе.
Действующие лица и их роль в развертывании драмы (уровень морфологический в сочетании с синтаксическим).
Большинство разделов Симфонии наполнено моторным движением, связанным с выражением взвинчено-экспрессивных трагических состояний, а также с образами «“дурной бесконечности” или тупого, противостоящего личности, механического зла» (выражение А. Ивашкина; [2; С. 5])[12]. Всему этому противостоит лирика с ее трагической рефлексией, обусловленной философским осмыслением происходящего. По сравнению с большинством симфонических концепций XIX-ХХ века баланс драматургических сфер у Шнитке нарушен в пользу напряженной моторности[13].
От других симфонических полотен Шестую заметно отличает и необычно высокая степень интонационной множественности. Только в главной партии первой части (на протяжении первых 30 тактов) содержится около десяти конструктивно значимых элементов. В дальнейшем многие из них выполняют роль строительного материала, но некоторые обретают определенную семантическую нагрузку, становясь «героями» драмы.
В Симфонии таковых — двенадцать: 12-тоновый кластер, фигуры anabasis и сatabasis, интонации секвенции «Dies irae», мотивы lamento, монограмма BACH, удары там-тама, тема солирующих литавр, а также фактурное противодвижение пластов, тембры медных инструментов, хорал и хоральность, драматическая скерцозность и токкатность.
12-тоновый кластер. Выделен особо, поскольку составляет основу музыкальной ткани Симфонии. К тому же он фигурирует как самостоятельная структурная и семантическая единица: отмечает разделы формы (начало экспозиции, разработки, репризы, конец коды) и связывается в сознании с характером трагической неизбежности. Специфика его звучания заставляет вспомнить один из исторически ранних символов рока в музыке ХХ века — «Приказ Герцога» («Ромео и Джульетта» Прокофьева)[14].
Трагический образ угубляется в ходе его развития путем включения хроматического глиссандо литавр[15] (начало разработки, 6 тактов после цифры 26), тембра колоколов и фортепиано (5 тактов до цифры 29), мелодико-гармонического абриса сцепленных между собой увеличенных ладов в заключительном аккорде струнных. Подобные quasi-мажорные окончания с принципиально амбивалентным смыслом знакомы по «победным» итогам симфоний Шостаковича. Думается, Шнитке, пользуясь здесь манерой эзопова языка своего великого предшественника, вложил в завершающую точку первой части всю боль и горечь, закамуфлировав их неясным, но устрашающим звучанием плывущего кластера (р < ff).
Мотив «Dies irae». Выступая как символ смерти, он непосредственно смыкается с кластером, тембром медных духовых, отчасти с жанром хорала и дает точное указание на природу рокового в этой симфонии (цифра 38, IV тромбон).
Тембр там-тама. Продолжая ту же мысль и обращаясь к модели Шестой симфонии Чайковского, Шнитке, обладавший абсолютным драматургическим слухом, ввел тот самый тембр, который, как известно, фиксировал в финальном реквиеме «Патетической» момент ухода из жизни. У Шнитке там-там дважды внедрен в траурный хорал Allegro moderato (такты 143, 161) и трижды — в музыкальный текст коды Финала (такты 238, 246, 253). Последнее троекратное вторжение этого вестника смерти, бесповоротно прерывающего течение музыкальной мысли, — один из ярчайших знаковых моментов трагической концепции, ее своеобразное memento mori.
Противодвижение пластов музыкальной ткани. Как средство показа лобовых конфликтных столкновений этот прием восходит к драматическому симфонизму второй половины XIX века и является неким «фирменным знаком» трагических ситуаций в произведениях Чайковского. Шнитке заостряет подобные звучания экспрессионистской стилистикой, доводя их до уровня кричащего отчаяния[16].
Лирика начального аllegro противостоит контрдействию довольно слабо и непоследовательно, появляясь время от времени, как бы штрих-пунктиром. Часто в предназначенных для нее композиционных разделах она не фигурирует вовсе (например, в репризе сонатной формы отсутствует побочная партия), но, тем не менее, как бы исподволь все же воздействует на ход событий.
Интонации lamento. Их сходство с темой вступления из Шестой Чайковского поражает. Появляясь в начале симфонии, они, как и у автора «Патетической», отмечены обреченностью исхода направляющей драматургический путь обеих Шестых[17].
Весьма существенно их перерастание в хорал тромбонов — главный траурно-лирический образ первой части (вторая тема побочной партии; цифра 14). Из общего атонального контекста этот эпизод выделен опорой на минорные устои (c-moll, h-moll, b-moll; с такта 5 после цифры 11). Ассоциируясь по характеру звучания с многочисленными австро-немецкими трагическими хоралами (у Брамса, Брукнера, Вагнера, Малера, Р.Штрауса и др.), по своему драматургическому значению шнитковская тема ближе всего оказывается хоралу-отпеванию из финала Шестой Чайковского. Их общность подчеркнута и тембровой окраской: три тромбона и туба у Чайковского — три тромбона у Шнитке.
Дальнейшая логика развития хорала — его неуклонное образное ужесточение[18]. Трансформируясь, он становится подлинным жанром-оборотнем, отмечающим моменты «катастрофических срывов» на протяжении всей Симфонии. Такова генеральная кульминация Allegro moderato, близкая эпизоду «Распятия» из Четвертой симфонии Шнитке: 16 жестких ритмических ударов оркестровой массы sff (вплоть до fff) с раскатами барабана могут вызвать чисто зрительный трагический образ (заколачивание гвоздей в тело Христа; 29 тактов, начиная с цифры 42).
Ее «тихую» реминисценцию в репризе Финала можно воспринять как непрерывное и вневременнóе Распятие в Вечности (4 такта до цифры 25).
Монограмма ВАСН. Она устойчиво живет в творчестве нашего современника как закрепившаяся в историческом сознании разновидность риторической фигуры Креста, как символ чистоты искусства, как знак философского осмысления мировых проблем человечества.
Однако в Allegro moderato автор намеренно нивелирует смысл этого важнейшего в истории музыки символа, кардинально изменяя интонации ВАСН и переводя их в общие формы движения (анаграмма со смещенной звуковысотностью в условиях свободного секвенцирования). Композитор внедряет их даже в сферу образов зла. Так, при экспонировании этот мотив получает двойную, притом полярную смысловую окраску. Он сплетается с драматической скерцозностью (главная партия первой части, 8 тактов до цифры 4) и входит в состав лирического lamento (первая тема побочной партии; 2 такта после цифры 4), предваряя мотивы исхода (4 такта до цифры 11).
После значительных трагических кульминаций тема ВАСН выступает в функции отторжения зла, подобно знаку DSCH в произведениях Шостаковича. Именно так воспринимаются протестующие октавные унисоны ff (c точной звуковысотностью ВАСН), внедренные в кластер меди (начало разработки; 6 тактов после цифры 27) и в музыкальную ткань генеральной кульминации репризы (1 такт после 44).
Итак, оригинальность творческого решения Allegro moderato сказывается, прежде всего, в прихотливом переплетении и постоянном обмене смыслами множества «действующих лиц». Позитивное и негативное, «добро» и «зло» оказываются нераздельно смешанными, а одно и то же событие, подобно двуликому Янусу, оборачивается своими противоположными сторонами. В результате, абсолютно все образно-смысловые ориентиры оказываются неустойчивыми. Особенно важна нестабильность в сфере «позитивного», воплощающей вечные жизненные ценности. Ее «душит» дестуктивное начало; она становится зыбкой, ненадежной: лирика почти тонет под натиском мрачной агрессии, всплывая лишь отдельными островками посреди океана образов крайней суеты и драматического напряжения.
Как и у многих предшественников, следующий этап столкновения полярных сил — средние части цикла. У Шнитке они резко контрастны: Скерцо дышит агрессивно-драматической токкатностью, в Adagio сосредоточена лирика.
Однако не все так просто в условиях конфликтного морфологического симфонизма. Сами образно-драматургические сферы продолжают оставаться достаточно условными, отвечающими принципиальной изменчивости эмоционального строя этой концепции, которая усложняется к тому же все большим проявлением свободного додекафонного слоя, вплетенного в контекст атональности. «Действующие лица» здесь так же разнообразны и свободно переходят в различные семантические поля, как и в Allegro moderato. Соответственно, конфликтные процессы продолжаются внутри частей, а наряду с уже известными «героями» обозначаются новые, активно продвигающие к заключительному итогу.
Драматическая скерцозность. Пройдя извилистый путь ужесточения в начальном Аllegro, она прорастает в однозначно негативную силу — агрессивную токкатность Presto (вторая часть, выполняющая функцию симфонического Скерцо). На первый план здесь выходит метроритмика (непрерывная пульсация шестнадцатыми в предельно быстром темпе), а звуковысотная организация материала основывается на новом, подчиненном токкатности, прочтении начального кластера. Этот образ мрачной механичности бездушного perpetuum mobile апеллируют, например, к кульминационным разделам Agitato Второго струнного квартета, Токкаты из Первого Concerto grosso Шнитке или к Vivo из его Четвертого скрипичного концерта, предельная экспрессия которого приводит к единственной в своем роде Cadenza visuale.
Разбушевавшуюся стихию зла останавливает лирика. С неожиданностью кинематографического приема Шнитке резко переключает внимание с кульминации напористой токкатности на идеальный по своей чистоте тихий лирический монолог (окончание Скерцо; цифра 26). Новая тема напоминает самые изысканные прокофьевские бесплотно-лирические, «паутинно нежные» (выражение Б.В. Асафьева) хрупкие стебельки лирики. Ее почти неосязаемая плоть соткана из прозрачного одноголосья флейты пикколо в высочайшем регистре на рр и аккордов струнных, скромно поддерживающих мелодию в пастельных красках тритон-секунд-, квинт-тритон- и кварт-созвучий.
Исповедальный смысл лирика приобретает в Adagio, где она неразрывно соединена с мотивом ВАСН. Особенно символично переплетение этого мотива с монограммой Шнитке (ADSCH)[19]. Монолог первых скрипок в высоком регистре, сопровождающийся интонациями lamento и прозрачной хоральностью струнных, подчеркивает состояние чистоты и одухотворенности. Подобное звучание «имени» мастера XVIII века может ярче всяких слов выразить отношение автора симфонии к своему великому предшественнику и к классическому искусству в целом.
Трагическая направленность развития даже этого, идеально-возвышенного образа очевидна. В репризе Adagio мотив ВАСН, подчиняясь траурной хоральности, обретает интонационно-гармоническое, жанровое и тембровое сходство с лейтмотивом «рока» из «Кольца нибелунга» и, отчасти, с начальной темой «Тристана и Изольды» Вагнера, погружаясь в область беспросветного мрака (цифра 14).
Решающую роль в концепции Шестой играет ее Финал. В нем, как в подлинной античной или шекспировской трагедии, в единый нерасторжимый клубок стянуты все прочерченные ранее драматургические линии и, кроме того, добавлены новые. В этом смысле он подобен финалам Девятой Бетховена, Четвертой, Пятой и Шестой Чайковского, заключительным частям симфоний Шостаковича. Этот ряд можно продолжить.
Так, в начальной теме Allegro vivace на протяжении всего лишь 12 тактов собраны многие «герои» инструментальной драмы: хорал меди (с чертами драматического марша), расходящееся противодвижение пластов, кластерный контекст, фигуры anabasis и сatabasis. Сам этот образ с его напряженной диссонантностью хроматически раздвигающихся двенадцатитоновых рядов вызывает ассоциацию с предельно экспрессивными маршами в финалах симфоний Малера, а его драматургическая функция может быть уподоблена Пассакалии из Четвертой симфонии Брамса.
С брамсовской концепцией Шнитке роднит многое, прежде всего, черты морфологического симфонизма, складывавшегося исторически постепенно с конца XIX века и достаточно определенно проступившего в творчестве немецкого романтика. У Брамса они выразились в типе драматургии, где «героями» инструментальной драмы стали относящиеся к разным слоям музыкальной поэтики отдельные элементы[20]. Разумеется, у Шнитке их гораздо больше, а их «поведение» значительно сложнее, поскольку они многократно мигрируют из одной образной сферы в другую и помещены в современный лексически-стилевой и концепционно-смысловой контекст.
Как в Пассакалии Брамса, в финале Шестой Шнитке кардинально переосмыслены «герои», три из которых идентичны брамсовским и трансформированы в сходном направлении[21].
В орбиту негативного отрицания постепенно втягивается весь образный и интонационный мир Симфонии — зло как бы становится Вселенским. Среди наиболее значимых «участников» этого процесса выделим мелодизированное соло литавр (варьированно претворяет начальные интонации главной партии первой части; цифра 1), кластер (2 такта до цифры 6 и цифра 12), полифоническую фактуру в разделах anabasis (гемитонные кварт-тритоновые структуры; цифра 5), монограмму BACH (цифра 7) и скерцозно-токкатный мотив (6 тактов до цифры 9).
Подобно величественным трагедийным кульминациям, Финал Шестой отмечен появлением новых «героев» и новых линий драматического действия. Таковым оказывается непосредственно указывающий на смысл происходящего трижды повторенный у трех труб ритм бетховенской «темы судьбы» (2 такта после цифры 17).
Драматургический план по мере развития произведения все более усложняется, способствуя крайней степени драматического напряжения Симфонии. Так, на конец Финала специально оттянуто подключение параллельной драматургии. Здесь, как бы в последнем оазисе жизни (перед ее заключительным крушением) «герои», кардинально разведенные по смыслу, обретают противоположный изначальному характер. Кластер, рассеивающийся в чистом звучании С-dur’ного трезвучия, входит в сферу лирики и вносит ощущение неземного покоя, плывущей над миром Вечности (рр у скрипок non vibrato; цифра 16), а мотив исхода у валторн, заостренный интонационно и метроритмически, впитывает всю остроту отчаянной, судорожно-протестующей трагической экспрессии.
Последнее волновое восхождение коды Финала (с цифры 31) обрывается стремительным погружением музыкальной ткани в низкий регистр и как бы постепенным умиранием интонационной материи. Заключительная пауза с ферматой погружает в дальнейшее молчание… И лишь отдаленный след отзвучавших колоколов воспринимается как голос Бесконечности, испокон веков наблюдающей за человеческой трагедией. Вспоминаются слова древнего проповедника: «Род проходит и род приходит, а земля пребывает во веки» (Книга Екклесиаста: глава 1; стихи 3-4).
В заключение хотелось бы подчеркнуть: в плюралистическом стиле композитора устойчивые элементы морфемного или лексемного типа всегда присутствуют в большем или меньшем количестве. Поэтому вопрос о смысловой стороне концепций нашего современника можно решить не столько самим фактом обнаружения этих семантически значимых единиц, сколько путем анализа драматургической логики их взаимодействия, дающего возможность адекватного прочтения авторского замысла. Подобный метод исследования позволяет не только подтвердить уже известные качества симфонизма Шнитке, такие как целенаправленность и результативность сквозного развития, но и проникнуть в парадоксальность симфонического мышления композитора. Она достигает своего кульминационного выражения в создании нового типа симфонии — конфликтно-морфологической. Ее главным условием становится гибкий процесс развертывания, при котором, казалось бы, запутанное поведение «героев» инструментальной драмы четко формирует концепцию. Имя ей — трагедия Человека и Мира в философском осмыслении ее глубинно онтологической сути. Перед нами — в высшей степени оригинальное проявление основной метаконцепции автора, как всегда органично вписанной им в контекст мировой культуры.
Примечания
[1] Третья симфония, выполнена, как известно, по заказу Лейпцига к юбилею Гевадхауза.
[2] Немецкий композитор аргентинского происхождения (1931-2008).
[3] При этом о позднем симфоническом стиле композитора было написано немало. См. работы Г. Григорьевой, А. Ивашкина, Е. Чигаревой, В. Холоповой, Дзюн Тибы и др.
[4] Е. Чигарева, например, пишет: «Мне представляется, что в чистом виде конфликтность, полярность как основа художественной концепции исчезают из творчества Шнитке (в поздний период — И.Н.)» [9; С. 147].
[5] «Внимание заостряется на деталях — звук, интервал, аккорд, интонация, как будто впервые найденные, становятся музыкальными событиями. Это особое свойство мышления позднего Шнитке А.Ивашкин называет морфологическим» [9; С. 147]. См. также: 2.
[6] Выражение Шнитке по поводу периодичности в условиях сериализма (10; С. 73).
[7] «Морфема — наименьшая значащая часть слова» [3, С. 505]. В нашем понимании — небольшой, но семантически значимый элемент, определяющийся каким-то одним средством музыкального языка (мелодическим, ритмическим, гармоническим и т.д.) либо их сочетанием. Это — частица музыкального текста, выполняющая функцию знака, некоего «указующего перста». «Лексема — единица словаря языка в совокупности ее словоизменительных форм и значений» [3, С. 431]. В нашем понимании — некая сравнительно небольшая семантически значимая область, затрагивающая сходные по смыслу, но не одинаковые мотивы, отрезки фраз. Они могут объединяться близкими интонациями, гармониями, ритмами тембрами (и т.д.), а также, например, жанровыми или стилевыми связями.
[8] Как и у многих симфонистов конца XIX-XX веков моменты восхождений на протяжении Шестой Шнитке часто отмечены полифонической фактурой и полифоническими формами (свободных фугато, микроканонов и канонических секвенций). В интонационном отношении они, как правило, опираются на веберновские гемитонные структуры секунд-тритон- и кварт-тритонаккордов.
[9] Связь масштабно-временных пропорций музыкальной ткани и остроты конфликта в Шестой Шнитке соприкасается с идеями С. Губайдуллиной, воплощенными в сочинениях, опирающихся на числовые ряды Фибоначчи, в частности, в симфонии «Stimmen… Verstummen…». См.: [7, 8].
[10] Последнее восхождение в Allegro moderato — волна, не имеющая завершающего спада — типичное для стиля Шестой решение фигуры anabasis, звучащее не просветленно, а как точка наивысшего трагического напряжения.
[11] Репризу первой части фактически заменяет огромная вторая волна разработки, коду — всупительный кластер.
[12] В первой части симфонии драматическая скерцозность впервые появляется в начале главной партии (3 такта после цифры 3) и достигает кульминации в разработке (цифра 36).
[13] Один из наиболее ярких и исторически ранних примеров такого нарушения, но обусловленного романтической эстетикой — Соната b—moll Шопена, симфоническое развитие которой ведет к разгулу моторности в вихре траурного Финала.
[14] Поочередное появление звуков, артикуляция marcato, динамический профиль волны, тембр меди с остающимся «эхо» струнных.
[15] Здесь и далее курсивом выделены «действующие лица» инструментальной драмы, которые включены в анализируемый элемент.
[16] Противодвижения пластов, как и большинство «действующих лиц», намечены в главной партии Allegro moderato (7 тактов после цифры 3). Своего трагического пика они достигают в генеральной кульминации, отмеченной экспрессией «на пределе»: плотно заполненная 3-х-октавная расходящаяся кластерная ткань, тембр меди, оглушительная динамика (fff), пронзительно сверлящие трели деревянных духовых (6 тактов до цифры 44).
[17] Эти интонации будут обозначены нами вдальнейшем «мотивами исхода».
[18] Оно достигается, в частности, слиянием с темой «Dies irae» (у тромбонов; цифра 38) и с расходящимся кластерным противодвижением пластов (у валторн и труб; генеральная кульминация первой части; 6 тактов до цифры 44).
[19] ADSCH — уникальный вариант подписи композитора. К обычному виду монограммы (ASCH) добавлена еще одна музыкальная буква «D», взятая из имени композитора Alfred. По типу прорастания из мотива ВАСН, как и по характеру звучания этой музыки, мотив ADSCH выступает здесь именно в роли монограммы. Уточнено в беседе автора статьи с В.Н. Холоповой 07.04.08.
Следует также отметить, что «имя» Шнитке иногда прочитывалось его современниками достаточно свободно. Например, Н. Корндорф назвал Струнное трио «В честь Альфреда Шнитке» (AGSCH), вставив в свой вариант монограммы начальную букву отчества композитора «G».
[20] О драматургии Четвертой Брамса [5, 6].
[21] Это хоральность, объединенная с драматически напористой маршевостью, которая выступает здесь как отрицание лирики; лирический поступенный нисходящий мелодический ход, превращенный в свою образную и структурную противоположность (жестко-непреклонный восходящий ход верхнего голоса) и трагическое по смыслу противодвижение пластов (у 4-х труб и 4-х тромбонов).
Список литературы
- Дзюн Тиба. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: опыт интертекстуального анализа. М.: «Композитор», 2004. – Объем 157 с. ISBN 5-85285-784-Х;
- Ивашкин А. Шостакович и Шнитке. К проблеме большой симфонии // Музыкальная академия. 1995, № 1. — С. 1-8;
- Крысин Л. Толковый словарь иноязычных слов. Свыше 25000 слов и словосочетаний. М.: Издательство «Эксмо», 2005 – Объем 941 с. ISBN 5-699-08073-2;
- Лист Ф. Избранные статьи. М.: Музгиз, 1959. – Объем 462 с.;
- Немировская И. О драматургии IV симфонии Брамса // Вопросы музыкального романтизма. Труды МГЗПИ (Московский Государственный заочный педагогический институт). М.,1979;
- Немировская И. Роль жанровых связей музыкального тематизма в эволюции симфонии XIX века // Музыкальная культура: век XIX — век ХХ / Ред.-сост. И. Немировская. М.: «Тровант», 1998. – С. 70-94. ISBN 5-89513-002-2;
- Немировская И. Симфония Губайдулиной «Stimmen… Verstummen…» («Слышу… Умолкло…») // Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 5 / Ред.-сост. А.В. Богданова, Е.Б. Долинская. М.: «Композитор», 2006. – С. 303-313. ISBN 5-85285-846-3;
- Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдуллина. М.: «Композитор», 1996. – Объем 324 с. ISBN 5-85285-472-7;
- Чигарева Е. Седьмая и Восьмая симфонии Альфреда Шнитке как макроцикл (в контексте его творчества) // Альфреду Шнитке посвящается… К 70-летию композитора. Вып. 4 / Ред.-сост. А.В. Богданова, Е.Б. Долинская. М.: «Композитор» 2004. – С. 145-156. ISBN 5-85285-247-3;
- Шнитке А. Статическая форма. Новая концепция времени // Альфред Шнитке. Статьи о музыке / ред.-сост. Ивашкин А., 2004.[schema type=»book» name=»Конфликтно-морфологический симфонизм в позднем творчестве Шнитке » description=»Парадоксальность драматургических взаимодействий, свойственная симфонизму последних десятилетий ХХ века, проявляется у Шнитке в новом типе конфликтно-морфологической симфонии, ставшей драматургически-стилевым открытием композитора. Семантически значимыми оказываются здесь краткие музыкально-лексические образования: морфемы или лексемы. Подобно тому, как части речи в грамматике составляют предложения, выражающие разные мысли, «герои» симфонии свободно переходят из одной образной сферы в другую, порой включаясь в противоположные смысловые поля. Анализу весьма запутанной логики развития этих своеобразных «героев» инструментальной драмы, которой Шнитке как бы специально шифрует предельно острый трагедийный смысл Шестой симфонии, и посвящена данная статья. » author=»Немировская Иза Абрамовна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2016-12-23″ edition=»euroasian-science.ru_25-26.03.2016_3(24)» ebook=»yes» ]