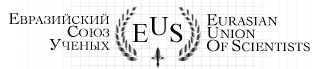Нельзя не заметить, что все сказки Петрушевской несут на себе печать ее неповторимой творческой индивидуальности. В этом творчески осваиваемом писательницей жанре особенно органично, видится нам, проявились «эклектизм» и «оксюморонность» ее художественного мышления. Мы уже обращали внимание на то, как смело экспериментирует она с жанровыми формами литературной сказки, соединяя в одном произведении признаки философской, например, и сатирической сказки («Город Света», «Счастливые кошки», «Королева Лир», «Глупая принцесса») или философской и дидактической сказок («Крапива и Малина», «Две сестры»), сатирической и социально-бытовой («Дикие животные сказки») и т.д. Некоторые из них скорее напоминают притчи («Сказка о часах», «Волшебные очки», «Черное пальто»). Но всё же главным в этой «сказочной» манере Л. Петрушевской следует считать ее виртуозную способность не просто «окружать» присущее этому жанру волшебство максимальным количеством обыденных деталей, а переносить вполне реальные события в поле сказки. При этом писательница щедро обогащает жанр литературной сказки новыми художественными приемами и средствами [3, с. 386-392]. Более того, ей доставляет явное удовольствие «играть» и с жанром, и с читателем, каждый раз изобретая нечто ошеломительное.
В 2008 году, например, Петрушевская озадачила читателей циклом своих «Загадочных сказок». Из откликов в Интернете можно было понять, что сборник этот многим пришелся по душе, но удивил адресат: совсем не на детей он был рассчитан. Свои загадочные истории писательница адресовала скорее взрослым, заставляя их, вспомнив детство, ломать голову над загаданным, дабы «увидеть неожиданную и поэтическую сторону в самых обычных вещах» [1, с. 109].
Играя в смешение жанров, что заявлено уже в заглавии цикла, Петрушевская выступает здесь в роли самобытной сказительницы одновременно обыденных и фантастических историй. Наименованием каждой из них становится та самая загадка, о которой «сказка сказывается».
Начинаются все они весьма традиционными сказочными зачинами: «Жила-была одна девочка…» или «Жил-был один мальчик…». Хотя иногда мы узнаем, что «Жило-было ОНО» или даже «ОНИ». С этими всеми НИМИ что-то обязательно происходит, причем в таком интригующем контексте, что тайнопись смыслов нарастает, как снежный ком.
Так, о какой-либо вещи, суть которой, казалось бы, не предполагает двоякого толкования, рассказ ведется то с сарказмом, то с добрым юмором, но в том направлении, которое далеко уводит от истинного смысла загаданного писательницей предмета. Но парадокс заключаетсяв том, что автор изначально прозрачным делает горизонт ожидания. И читатель чистосердечно устремляется туда, где его ждет … «подводная мина» взрывного финала. Заключительная фраза такой сказки-загадки становится «перевертышем» предполагаемой отгадки. Финал, таким образом, заставляет задуматься над неожиданно проявленным значением скрытого в загаданном предмете смысла, исподволь «маячившего» в метафорическом подтексте.
Обратим внимание, что сказки эти интригующим развитием действия игриво имитируют детективный жанр, хотя в сюжетах рассказываемых Л. Петрушевской историй не расследуются убийства, правда событие такого рода может быть обозначено в тексте. Так, в открывающей цикл сказке «Маленькая красавица» главную героиню как раз убивают. Финальная фраза проясняет картину: эта крошечная длинноногая, длинноносая поющая красавица была … комаром, тем-то и оправдано столь «страшное преступление». Игра на жанровой схожести проявляется в специфической развязке, открывающей то, о чем мы и не догадывались, читая «захватывающую» историю. Но даже там, где у Петрушевской речь не идет об «убийственных» событиях, напряженная интрига непременно сохраняется. Чаще всего это происходит в результате ироничного травестирования наших «высоких» ожиданий.
В сказке-загадке «Мальчик с насморком», например, с первых строк кажется, что рассказывают о вполне реальном юноше. «Жил-был мальчик. Он был красивый, с хорошими данными, но с одним серьезным недостатком: когда к нему подходили, он всегда собирался что-то сказать, хотя бы какие-то простые слова про погоду или обыкновенное «привет», но у него ничего не получалось, начинало течь из носу.
Он чуть не плакал, потому что когда от него отходили, лить из носу сразу резко переставало. Особенно это касалось его любимой девушки» [2, с. 25].
В расчете на возникшее читательское сочувствие герою, проявленную к нему симпатию, автор развивает эту историю в соответстующем ключе: «Он заготавливал разные речи, чуть ли не стихи сочинял, ведь он был хорош, умен, в нем билась живая душа, он много знал о технике, мог сказать что-то важное, но: вместо этого у него начинался насморк. Просто позор! Поэтому он молчал» [2, с. 25].
Скорая развязка злоключений нашего мальчика проясняет загадочную причину происходящего. «Но однажды произошло чудо: к нему приблизилась любимая девушка, тронула его за плечо, и он подумал, что вот опять у него начнется ерунда, однако этого не произошло.
Некоторое время длилось молчание, потом мальчик что-то сказал шепотом. Он так волновался, что говорил тихо-тихо, похоже было на шипение.
Потом он неожиданно запел, как певец, как саксофон, даже завыл на разные голоса, как кот на прогулке, затем в горле у него ни с того ни с сего забулькало и засипело (ужас!), так что девушка встряхнулась, сердито крутанула его и громко завопила: «Ма-ам, всё, воды нету, позвони! Ну, ты подумай! Из крана не течет!» [2, с. 25].
Вот так, по-бытовомусниженно, открывается тайна этого несчастного влюбленного «мальчика»: «И водопроводный кран тут только узнал, как его зовут» [2, с. 19].
Иного свойства интрига держит в напряжении читателя сказки «Солнышко за стеной». Заглавие буквально «светит» и «греет», манит живительным теплом. Но подспудно тревожит мысль о некой, возникшей здесь, таинственной «стене». «Жило-было такое что-то, — загадочно начинает сказительница, — ни мальчик ни девочка, так называемый средний род: оно.
Оно было живое, но не шевелилось и не должно было никогда шевелиться.
Короче, не двигалось, не мычало и не хрюкало, не плавало и не мяукало, не пело и не плакало, не писало, не какало, молчало как камень» [2, с. 20].
Озадаченный изобилием неожиданных отрицаний, читатель еще дальше отброшен от разгадки. Из «солнечного» контекста все же не выпало слово «восход», правда, его почему-то некому было наблюдать, потому что он происходил за крепкой белой стеной, за которую никто не мог пробраться и войти внутрь, где солнце как раз все время и восходило. Никогда при этом не заходя!
«Короче, всходило-всходило это солнышко на прозрачном утреннем небе день за днем, день за днем, и угораздило это самое светило как-то раз получить себе хвостик. Хвостик и хвостик, притом он не вилял, не мотался, а аккуратно восходил вместе со своим солнышком там, где их никто не видел: за крепкой белой стеной» [2, с. 20].
Хвостик этот, прямо скажем, не только не проясняет суть дела, но окончательно сбивает читателя – разгадывателя загадки — с толку. Напряжение нарастает в кульминационный момент повествования: «И вдруг совершенно неожиданно на солнце появились пятна! Пятна и полосы. Даже какие-то спирали и зигзаги.
И учтите: никто этого не видел и не мог прийти на помощь! Катастрофа надвигалась…
Короче, спустя некоторое время ясное круглое оранжевое солнце превратилось во что-то поганое и мокрое, в бесформенную кучу темного вида с торчащими кривыми загогулинами и острыми углами. Кошмар, что делает с нами жизнь!» [2, с. 20].
И тут мы проникаемся иронией автора, начиная выстраивать все ассоциативные связи, которые возникают при обращении к образу солнышка, сидящего за белой стеной. «Короче, мир постигла катастрофа. Вместо золотого солнышка в мутном небе, которого почти и не осталось, заворочалось какое-то чудище, приоткрыло огромный тусклый глаз, долбануло кривым острым носом в стену, в белый небосвод, скрр! Кррж! Квякс! Бдумс! Бдумс!
Небосвод треснул, что ему оставалось делать? Белая стена, видно, была только на вид крепкая, а на самом деле она оказалась хрупкой. И на свет из трещины явился кончик костяного носа.
Мама удивилась, хотя и обрадовалась» [2, с. 20].
Наконец-то грянула развязка этой «катастрофической» истории: «И из белого яйца вылез мокрый детеныш: здрасьте! Ему предстояло стать орлом или крокодилом, черепашкой или бабочкой, даже королевской коброй. Но он стал курицей. Тут и конец сказки» [2, с. 21].
Итак, финал вновь, как и полагается в сказках, счастливый. Но, кроме того, здесь явлен еще и некий философский подтекст, проясняющий картину таинства зарождения жизни по Петрушевской: вот желтое солнышко – и вдруг это уже «что-то поганое и мокрое», т.е. «мокрый детеныш», обещающий стать курицей (даже не королевской коброй!). Понятна ирония очень «петрушевского» при этом замечания: «Кошмар, что делает с нами жизнь!»
Смысловые перевертыши обыденного и возвышенного, высокого и низкого, оксюморонная их сочетаемость становятся в этом сказочном цикле доминантой повествования. Здесь важна бывает для писательницы и игра с оттенками смыслов: по-разному нам будет рассказано о девочке с аппетитом (т.е. божьей коровке) и девочке-обжоре (кастрюле на этот раз). Свое особое «лицо» у Петрушевской обретет стул, к примеру, (мальчик-слуга) или чистая девочка (рюмка). О незабудке (ежедневнике) или девочке суперстар (погоде) будет загадано автором как о таком же живом существе, как и об арестованной девочке (обезьянке в зоопарке) или неуклюжем мальчике (слоне огромных размеров).
Раскручивая интригующие сюжеты о девочке-курильщице (т.е. вулкане Этна), мальчике на ночь (детективном чтиве), всеобщих идолах (т.е. часах), великом открытии веков (как оказалось, обыкновенной ложке) и, пожалуй, самой знаменитой девочке страны (ни много ни мало как Красной площади) и т.п., Петрушевская не гнушается здесь даже самой «грязной», вульгарно-бытовой тематики, «уравнивая» ее своим интересом к социально-политическим сферам с «высокими» темами. Красотка-помойка и мальчик вроде сиротки (он же унитаз) столь же правомерно равновелики здесь, как и президентские выборы (загадка про «ОН и ОНА») и уже упомянутая Красная площадь. В загадочной истории про последнюю будет прозрачно-туманно рассказано, что девочка эта «уже в годах», однако, «ей незачем лицом хлопотать. Каменное выражение приняла – все трепещут». Она, конечно, знаменитая, «вот как бывают народные артистки». Сказано еще, что «навещают ее часто, ну как пожилую родственницу в отдельной палате», она «принимает их лежа». Но: «как в каждой больнице, девочка лежит не одна», там полно «по соседству всякого сброда…Есть убийцы, есть даже серийный маньяк, есть распутник, лежат такие психи с манией преследования…Уж как эти-то сюда попали? А вот так: привезут на скорой с сиреной и положат, девочку нашу не спрашивая» [2, с. 64-65].
Такое очевидное наследование Л. Петрушевской традиции шедринского сатирического письма в этом цикле проявлено на разных уровнях. Однако привычно узнаваем в любой из загадочно рассказанных здесь историй будет социально обозначенный подтекст повествования. Все тот же сугубо «петрушевский» проблемно-тематический ряд наблюдаем и в загадке про чистую девочку-рюмочку. Девочка эта «вроде бы чистая, как невеста. Просто залюбуешься», но ведь «одна из опаснейших». Вот она: «украшает собой общество. Душа торжества!.. И наша девочка никому ничего не обещает, никакого райского блаженства, только тихо сияет.
Но по прошествии времени, бац! Вокруг нее крики, драка, оскорбления, побоище, свалка, битая посуда, и сама девочка лежит в грязи…
На ней уже чуть ли не дактилоскопия каких-то пальцев заметна…
И хозяйка смущена и озабочена, и наутро говорит очумелым родственникам: вы на нее не заглядывайтесь!
Но они заглядываются…» [2, с. 47-49].
Всё как всегда у этого автора – и грустно, и смешно, и есть над чем задуматься. О том, что в сказках Петрушевской всегда, как водится, есть тот самый «намек – добрым молодцам урок», нельзя не сказать особо, ведь ее эстетическая установка на невмешательство в исход изображаемых событий, отказ от авторских «приговоров» («литература не прокуратура» — утверждает писательница), казалось бы, исключает мысль о любом проявлении дидактизма в ее прозе. Однако жанровая природа сказки, видимо, обрекает автора на соответствие канонам. Даже тогда, когда с жанром автор экспериментирует, изобретая новые формы, в которых начинают проявляться самые неожиданные его видовые качества.
В случае же с циклом «Загадочных сказок» мы наблюдаем удачное слияние, нерасчленимое смешение традиционных фольклорных жанров загадки и социально-бытовой, а порой и волшебно-авантюрной сказки, порожденное талантливым росчерком пера писательницы, до сих пор умеющей по-детски удивляться окружающему миру и не устающей удивлять даже взрослых своих читателей.
Таким образом, жанровый синкретизм «Загадочных сказок», проявленный в синтезе элементов различных эстетических систем, придает этому циклу неповторимый художественный колорит, в той или иной степени свойственный всему разноликому творчеству Л.С. Петрушевской.
Список литературы:
- Загадка //Литературный энциклопедический словарь /Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 752 с.
- Петрушевская Л. Загадочные сказки. Стихи (хи)². Пограничные сказки про котят. Поэмы / Людмила Петрушевская. – СПб: Амфора, 2008. – 291с.
- См. об этом: Зимина Л.В. Жанровое своеобразие сказки в творчестве Л. Петрушевской //Междисциплинарные связи при изучении литературы: Сборник научных трудов. Вып. 2. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. С. 386 – 392.[schema type=»book» name=»ЖАНРОВЫЙ СИНКРЕТИЗМ «ЗАГАДОЧНЫХ СКАЗОК» Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ » description=»Автор статьи видит свою задачу в определении жанрового своеобразия цикла «Загадочных сказок» Л. Петрушевской с позиции проявленной здесь контаминации типологических признаков загадки и сказки. Жанровый синкретизм определяется когнитивной моделью сказки, которая в этом сборнике Петрушевской приобретает характерные дополнительные признаки. Являясь по сути развернутыми метафорами с «перевернутыми» смыслами, эти интригующие сказочные истории обретают отчетливые признаки традиционного жанра загадки. » author=»Зимина Лариса Владимировна » publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-02-28″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_25.07.15_07(16)» ebook=»yes» ]