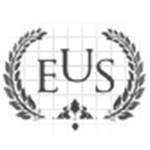Экзотические персонажи – прежде всего, пираты – на первый взгляд, сближают авторскую песню с городским фольклором. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что у двух песенных традиций только и общего, что наличие этих персонажей. Дальше начинаются различия. Городской фольклор не видит принципиальной разницы между пиратами, вообще моряками, ковбоями и т.д. В уличной песне вполне может появиться какой-нибудь «Чернобровый смуглый капитан. // В белоснежном кителе матроса» [12; 226]. В этом смысле весьма показательна песня Л. Дербенева и А. Зацепина из фильма Л. Гайдая «12 стульев», оказавшаяся настолько точной стилизацией, что была воспринята зрителем как народная и встречается в сборниках городского фольклора без указания на авторство: «Где среди пампасов бегают бизоны, // А над баобабами закаты, словно кровь. // Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, // Жил пират, не верящий в любовь» [13; 229]. Далее этот географический винегрет пополнят стройная креолка и молодой ковбой, но несовместимость персонажей и антуража не важна для городского фольклора. Важно лишь то, что все они из какого-то другого мира, все они – маркеры экзотики как чего-то чужого и далекого.
Что касается авторской песни, то разговор о ней хочется начать с песни Ю. Кукина «Солдат Киплинга»: «А мы уходим рано, // Запутавшись в долгах, // С улыбкой д’Артаньяна, // В ковбойских сапогах». [6;164] Солдат Киплинга, который к тому же оказывается еще и ковбоем, и д’Артаньяном одновременно, – это персонифицированное воплощение мечты, романтических фантазий, мальчишеских идеалов. Для полного комплекта атрибутов ему разве что повязки через глаз не хватает. И это очень характерно для экзотических персонажей в авторской песне.
Исходная точка всех морских (пиратских) песен – «Бригантина» П. Когана и Г. Лепского (1937 год). В ней, как в фокусе, заложено все, что разовьется позже: и стремление взломать обыденность («Надоело говорить и спорить, // И любить усталые глаза…»), доходящее до явного протеста («Пьем за яростных, за непохожих, // За презревших грошевой уют»), и пиратская атрибутика, навеянная приключенческими романами в духе Стивенсона («Вьется по ветру веселый Роджер, // Люди Флинта песенку поют»), и мечта о недосягаемой дали, и подчеркнуто романтический образ бывалого моряка: «Капитан, обветренный, как скалы» [10;21]. Спустя четверть века поющие поэты один за другим начнут подхватывать мотивы П. Когана. Одним из первых, наиболее талантливых и наиболее плодовитых среди них был Ю. Ким, отозвавшийся о «Бригантине» следующим образом: «Это был как бы романтический гимн нашего поколения, он замечательно выражал благородство помыслов и мужественную готовность к борьбе в начале пути – несмотря на некоторую уголовность сюжета: вряд ли флибустьеры отличались особенным благородством» [4; 390].
Заданное «Бригантиной» бунтарское начало преобладает у Б. Окуджавы и у А. Городницкого. Причем в обоих случаях с явным акцентом на «некоторую уголовность», граничащую с социальным протестом. Например, у Городницкого: «Дрожите, лиссабонские купцы, // Свои жиры студеные трясите», «И если в ясный солнечный денек // В последний раз запляшем мы на рее – // Мы вас во сне ухватим за бока» [3; 52]. Не менее отчетливо «некоторая уголовность» выражена у Окуджавы – в «Пиратской лирической»:
Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху,
ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь – я сам взбегу на плаху.
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.
Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото как братья,
поскольку денежки чужие не достаются без труда.
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятья.
Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже, никогда [9; 320-321].
Но чаще в авторской песне пиратская и вообще морская тема ассоциируется с воплощенной мечтой. Например, в песне В. Ланцберга «Пора в дорогу, старина… » [7; 82] мечта устремлена куда-то вдаль, к морю как таковому, и нацелена на будущее, а потому хотя бы гипотетически может воплотиться в реальность. Иногда же мечта оказывается обращенной в прошлое, изображаются бывшие пираты, как, например, в «Последнем пирате» Окуджавы: «В районной пивной, на сквозном ветерке, // гуляет Последний Пират. // С малиновым камнем в старинной серьге // идет он в последний парад»[9; 178].
Этот персонаж взламывает изнутри заурядно-повседневную обстановку, обыденную декорацию, в которую помещен несколько искусственно. Чем-то он близок к гриновским песням Ланцберга, к Грэям, которым пора на пенсию. Гораздо резче обращенная вспять пиратская романтика звучит в песне Г. Аделунга «Мы с тобой давно уже не те…». Вроде бы это ностальгия данного человека по вполне конкретному прошлому – по шхуне, пушкам, шпагам и т.д.. Но переход от этого самого прошлого к заедающему быту изображен столь же детально, сколь и контрастно, отчего возникает впечатление иллюзорности, совмещение реальностей: «В нашей шхуне сделали кафе, // На тумбу пушку исковеркали», «Кэп попал в какой-то комитет, // А боцман служит вышибалою» [8; 283]. Иногда романтизация пиратов развита настолько, что на первый план выходят сугубо этические мотивы. Так в песне Ю. Визбора «Пиратская» оправдывающий название антураж (и не более, чем антураж!) полностью сосредоточен в первом куплете: «Железная нога, железная рука, // Четыре пистолета и серьги по бокам», «роскошные усы» [1; 437] и т.д. В остальном же это просто песня о мужской дружбе, как и многие другие у Визбора.
Особое место занимают песни В. Высоцкого «Пиратская» и «Был развеселый розовый восход…», близкие к городскому фольклору характерным балладным сюжетом с дракой, поножовщиной и трупами. Особенно это относится к песне «Был развеселый розовый восход…», где поножовщина предположительно возникает из-за девушки. Однако уличным песням несвойственны ни мотив удачи («Удача – миф, но эту веру сами // Мы создали, поднявши черный флаг!» «Мы – джентльмены, если есть удача, // А нет удачи – джентльменов нет!»), ни конфликт из-за добычи – в «Пиратской»: «На судне бунт, над нами чайки реют! // Вчера из-за дублонов золотых // Двух негодяев вздернули на рею, – // Но мало – нужно было четверых». А уж развязка следует и вовсе неслыханная: «Но капитан вчерашнюю добычу // При всей команде выбросил за борт» [2; 228]. Деяние, мягко говоря, нетипичное для пирата, не говоря уже о его мотивировке: «Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью, – // Поверьте, что цена невысока!» [2; 229]
В песне «Был развеселый розовый восход…» кровавая драка из-за добычи («Был однажды богатой добычи дележ, // И пираты бесились и выли…» [2; 363]) оттеняет трагическую любовь между юнгой и пленницей. Причем остается невыясненным, была ли пленница той самой спорной добычей, или же эти сюжетные линии дополняют друг друга – текст песни в равной степени допускает оба толкования. При максимальном внешнем сходстве с уличными пиратскими песнями, явственно видны абсолютно несвойственные этим песням этические проблемы. Во-первых, герои убивают не друг друга из ревности и мести, как в городском фольклоре, а себя из-за любви и страха друг за друга. Более того, если предположить, что предметом дележа была именно девушка, то получается, что юнга дрался за нее на своем же корабле против всей команды, а не один на один с каким-нибудь посторонним капитаном или боцманом (ср.: «В нашу гавань заходили корабли…», «Юнга Билл» и др.). Этический потенциал пиратских песен Высоцкого практически разрушает образы пиратов – и романтизированных, и, тем более, реальных.
Традицию Высоцкого развивает М. Щербаков – герой его «пиратской» песне «Пустые бочки вином наполню…», строго говоря, вообще не пират: «Чужие люди твердят порою, // что невсамделишный я пират. // Да, я не живу грабежом и кровью, // и это правду они говорят» [11; 75]. Это прямое развитие темы Высоцкого – насчет «всего, что пахнет кровью», и что, стало быть, надлежит выбрасывать за борт. И даже более: «Но чтобы других убивать или вешать, // что вы, Бог меня упаси!» [11; 76] В уличных песнях и даже в какой-то степени у Высоцкого пираты, пусть даже идеализированные, хотя бы претендуют казаться настоящими. А постмодернистский пират Щербакова – явно книжный или, вернее, книжно-песенный, сформированный культурой последних десятилетий, включая бардов старшего поколения. Щербаков хорошо знает, что в современной ему культуре пират представляет собой знак определенных ценностей. А потому пиратство у него – артефакт этой самой культуры.
Откровенно книжная природа пиратской темы и в «Балладе о печальном скрипаче» М. Кочеткова, который с явной иронией переосмысляет предмет полудетских романтических мечтаний: «Среди акул и альбатросов // Мечтал стоять он на борту, // Слегка подвыпившим матросом // С огромной трубкою во рту, // Крича в бою осипшим басом: //«На абордаж, орлы, вперед!» – // И быть огромным, одноглазым, // И даже раненым в живот» [5; 127]. Также иронически, с присущим Кочеткову неистощимым юмором и тоже с очевидной оглядкой на культурную традицию, но уже на другую, пиратская тема обыгрывается в песне «Наколка»:
Наколка: «Не забуду крошку Беллу».
Прекрасен в профиль, спереди и в тыл.
Он плавал на пиратской каравелле
в Гонолулу.
Он плавал, а теперь вот он приплыл.
Тяжелый кольт, широкий клеш, тельняшка.
Изящна деревянная нога.
Шарахаются бабки и дворняжки,
Ведь Гарри Болт не шутит ни фига.
Вот он идет в притон «Гвадалахара»,
Где подает вино безрукий гном,
Где, ночи напролет дымя сигарой
с перегаром,
Он будет пить тройной пиратский ром [5; 107].
Дальше герой вспоминает, как однажды на этой каравелле застал упомянутую крошку Беллу с неким юнгой Билли, которого аттестует как «спасенного им в драке подлеца». А затем рассказывает, что по такому случаю предпринял:
И сразу смолкли пьяные дебаты.
Рука легла на кольт и Гарри Болт
Сказал спокойно: «Граждане пираты,
Кто хочет жить, всех попрошу за борт».
«Азохен вей! В гробу я видел эти шутки!» –
Воскликнул старый боцман – и за борт.
Отплыли все корыта, бревна, шлюпки.
И то, что надо, сделал Гарри Болт.
Качает норд на рее крошку Беллу,
Красавчик Билли пригвозжен багром.
А Гарри Болт, покинув каравеллу
в Гонолуле,
В «Гвадалахаре» пьет пиратский ром [5; 107-108].
Здесь пародийно переосмыслена традиция городских пиратских песен, типичные признаки которых даны в предельной концентрации. Во-первых, любовный треугольник со смертоубийством. А имя «юнга Билли» позволяет рассматривать «Наколку» как пародию на конкретную песню. Во-вторых, полный комплект внешних пиратских атрибутов. В-третьих, плотность красивых «заграничных» слов едва ли не выше, чем обычно бывает в первоисточнике. И все это – на фоне декорации, указывающей скорее на какую-то вполне повседневную обстановку, нежели на «Гвадалахару» в Гонолулу. Невольно закрадывается подозрение: а не является ли пиратский антураж плодом хмельной фантазии героя? Вот сидит он себе в какой-нибудь пивной и в меру разумения грезит о красивой жизни – примерно так же, как грезил и герой «Баллады о печальном скрипаче». Разница лишь в том, что интеллигент начитался приключенческих романов, а пьяница наслушался уличных песен. В обоснование этой версии можно привести два нюанса. Первый – предмет особой гордости Гарри Болта: «Изящна деревянная нога». Тут возникает прямая ассоциация с мечтой печального скрипача быть «даже раненым в живот». И второй – строка: «И то, что надо, сделал Гарри Болт». Такая формулировка предполагает оглядку на некие модели поведения, источник которых очевиден – уличные пиратские песни.
Однако Кочетков отнюдь не первым внес в пиратскую тему иронические и пародийные нотки. Бесспорный лидер в этом смысле – Ю. Ким, чьи песни разительно отличаются не только от уличного, но и от всего остального бардовского пиратства нескрываемой иронией, умением посмеяться над собой. Даже самая лиричная и «серьезная» из морских песен Кима – «Фантастика-романтика» – отмечена печатью легкой самоиронии, выразившейся, прежде всего, в названии. Безусловные романтические фантазии плохо сочетаются с такой трезвой самооценкой. Слова же «Антарктика» и «Атлантика» здесь не столько названия реальных мест, сколько звуковая игра. Еще более лихо Ким жонглирует топонимами в песне «Отважный капитан», где на четыре куплета приходится одиннадцать звучных экзотических названий (Калькутта, Бордо, Канберра, Сантьяго, Рио-де-Жанейро, Амазонка, проливы Лаперуза и Магеллана, а также Каттегат, Скагеррак и Па-де-Кале), которые к тому же рифмуются с такими словами, как «фрегат», «Волны, скалы, буераки // И чудовищные раки», огромная медуза, амазонки, маринованный спрут и «бутылка Эль-Мадейро, // Что ценой в один крузейро» [4; 39-40]. Складывается впечатление, что весь этот фейерверк экзотики автор устроил исключительно ради экспериментов с яркими рифмами.
Еще более отчетливо ирония звучит в песнях Кима «Пиратская» и «Старый пират». Если другие барды в той или иной степени вживались в образ пирата, то Ким откровенно примеривает на себя карнавальную маску, грубовато намалеванную в соответствии с общепринятыми клише. В обеих песнях присутствует необходимый набор внешних атрибутов: в «Пиратской» это декорация («А над нами – черный флаг, // А на флаге – белый знак: //Человеческий костяк // И кости! (Йо-хо-хо-хо!)» [4; 33]), а в «Старом пирате» – скорее «грим» («Через глаз – повязка, // Через череп – шрам! // Это не жизнь, а сказка, // Доложу я вам!» [4; 341]). Рискну предположить, что упоение членовредительством в пиратских песнях М. Кочеткова – реминисценция из Кима. Далее, в обеих песнях присутствует обязательный набор топонимов. Причем если в «Пиратской» это всего лишь «Крепкий ром Ямайки, // Виски Сан-Франциско, // Бренди из Сантьяго» [4; 34], то в «Старом пирате» список обыгрывается куда интереснее: «На синем океане // Летит мой черный бриг: // Бристоль, Марсель, Кейптаун, // Торонто…// Сто три меридиана // Проткнул его бушприт, // И все – // Без капремонта» [4; 41]. Торонто тут явно для рифмы – и для какой рифмы! Подчеркнуто бытовая, приземленная характеристика брига сразу, в первом же куплете, задает комический тон. А Марсель и Кейптаун – узнаваемые адреса уличных песен, подчеркивающие связь с традицией. Наконец, в обеих песнях присутствует то, что сам же Ким назвал «некоторой уголовностью»: «За мех и серебро // Заплатит ножик под ребро» [4; 34], – и т.д. Это – «пиратская». В «Старом пирате» уголовные мотивы развернуты гораздо подробнее: «Сидел я и в остроге, // И в яме», «Меня среди Женевы // Ждал личный эшафот», «А я помру на стеньге // За то, что слишком жил, // И все – Не по закону!» [4; 41-42]
Ирония Кима распространяется и на других экзотических персонажей. Например, он карикатурно изобразил тореро: «Они по Гвадарраме // Скакали три денька, // И вдруг на них напали // Огромных три быка! // Два храбрых кабальеро // Пустились наутек, // А с бедным Доном Педро // Случился нервный шок». И далее: «Очнулся наш Дон Педро // И вместо трех быков // Увидел над собою // Огромных трех коров…» [4; 13] То же можно сказать и о ковбоях. Ковбойская тема в авторской песне переосмысляется примерно с такой же иронией, как и пиратская. Например, у Кима: «На джинсики нарядные // наденьте с двух сторон // Двенадцатизарядные системы «смит-вессон», // Тут нет цивилизации, тут все решает нож – // Если будешь жив, то не помрешь! // Любовь и драма – один пустяк! // Четыре шрама наискосяк!» [4; 133] И особенно – у Ю. Кукина: «А сколько мексиканок покорил? // И где ваш, извините, «Смит и Вессон»? // И не про вас ли Джо мне говорил: // – Штаны надеть забыл, а кольт повесил?» И далее: «Неплохо сигарету бы to smoke. // Есть лишь «Памир», а «Кэмела» вот нету… //– Кончай трепаться. От нее письмо. // Она уходит. Дай-ка сигарету» [6; 86]. Личная коллизия в заключительных строках далеко не романтична, равно как и реакция на нее – в подобной ситуации персонажи городского фольклора хватались за нож или за тот же кольт, но уж никак не за сигарету. Перед нами не столько ковбой, сколько человек, воображающий себя ковбоем. А точнее, два человека: один и рад бы пофантазировать, да другому не до того. Кукин жестко обозначил оппозицию романтических фантазий и приземленной реальности. Мотив житейской неустроенности, заедающего быта звучит и у В. Туриянского – его ковбой страдает от похмелья и мечтает о новых джинсах.
Очень серьезно бытовая тема раскрыта в насыщенной ковбойскими ассоциациями песне Ю. Кима «Вилли-Билли-Джон». Настолько серьезно, что, я бы даже сказала, она в этой песне закрыта. Даже тройное имя – не столько свойственная Киму игра в слова, сколько обобщение, заглавный герой – как будто собирательный экзотический персонаж. Странствуя по дорогам, он находит подкову и прибивает ее над своим порогом – на счастье, на удачу. С этого момента его жизнь раздваивается – формально все хорошо, но… «Что же такое, Вилли? // Что же с тобою, Билли? // Ты опять мечтаешь о дороге, Джон!» Возврат к прежнему невозможен: «Вилли-Билли-Джон, конь твой захромал, // Он скакать не может по лесным дорогам. // Где же подкова, Вилли? // Где же подкова, Билли? // А она прибита над порогом, Джон!» [4; 147] Необратимость ситуации заложена в самом прибивании подковы над порогом вместо того, чтобы приберечь ее для коня. Подкова оказывается поистине магическим предметом, существующим в единственном числе – либо она над порогом, либо на конском копыте. Как будто в мире вообще осталась только одна подкова. В этой песне Ким доводит тему экзотических персонажей до одной из возможных логических точек: мечта несбыточна и обречена остаться мечтой. Единожды очутившийся в тисках быта, пусть даже самого благоустроенного, из них уже не вырвется. И это лишний раз подчеркивает книжность, ирреальность как общее свойство экзотических персонажей в авторской песне.
Итак, если в городском фольклоре пираты, ковбои и проч. претендуют казаться реальными и не терпят никакого переосмысления, то в авторской песне они представляют собой артефакты культуры. Экзотические персонажи в авторской песне могут быть иронически переосмыслены, проверены «на прочность» соприкосновением с реальностью в любых ее проявлениях, могут стать предметом интеллектуальной игры как знаки культурной традиции, включающей в себя, в частности, и городской фольклор.
ЛИТЕРАТУРА
- Визбор Ю.И. Сочинения. В 3 тт. Т. 1. М., Локид-Пресс, 2001.
- Высоцкий В.С. Сочинения в 2 тт. Т. 1. Екатеринбург, У-Фактория, 1999.
- Городницкий А.М. Перелетные ангелы. Свердловск, Старт – М., Интербук, 1991. 280 с.
- Ким Ю.Ч. Сочинения. М., Локид, 2000. 575 с.
- Кочетков М. Два алкоголика на даче. – СПб.: Вита, Нова, 2002. 160 с.
- Кукин Ю.А. Дом на полпути. М., Советский фонд культуры, 1991. 192 с.
- Ланцберг В.И. Условный знак. М., Аргус, 1996. 288 с.
- Люди идут по свету. / Сост. В. Акелькин, И. Акименко, Л. Беленький, В. Трепетцов. М., Физкультура и спорт, 399 с.
- Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате. М., ПАН, 1996. 640 с.
- Среди нехоженых дорог одна – моя. / Сост. Л.П. Беленький. М., Профиздат, 1989. 440 с.
- Щербаков М.К. Другая жизнь. М., Аргус, 1997. 336 с.
- Энциклопедия русских песен. /Сост. Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. – М.: Эксмо, 2002. 544 с.
- Я хочу, чтобы песни звучали… – Харьков: Фолио – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. 448 с.[schema type=»book» name=»ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В АВТОРСКОЙ ПЕСНЕ» description=»Статья посвящена связям авторской песни и городского фольклора. Экзотические персонажи характерны для обеих песенных традиций. Анализ текстов показывает, что между экзотическими персонажами в авторской песне экзотическими персонажами в городском фольклоре различий больше, чем сходства.» author=»Левина Лариса Александровна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-03-10″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_27.06.2015_06(15)» ebook=»yes» ]