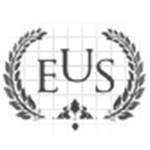Добро, если бы о нашей российской действительности наши же российские философы могли судить дельно и разумно, а власти бы к ним прислушивались. Но философия, хотя она и является «эпохой, схваченной в мысли», приходит, как известно, позже самой эпохи. Все суждения философов о своём времени не многим отличаются от мнений нефилософов. Тем более, если речь идёт о времени «хлеба и зрелищ», когда и тем и другим дорожат больше всякой мысли. Точнее, когда ценится лишь мысль, сопровождаемая хлебом и зрелищем. В такое время философствуют все, а мнения популярных актеров или политиков, даже, если в них нет ни глубины, ни оригинальности, воспринимаются как откровение. Философу в это время лучше заниматься своим делом, хотя со стороны оно всегда кажется несвоевременным. А в России дело философов к тому же и бесполезно. Давно ведь известно мнение: «Польза от философии не доказана, а вред от неё возможен».
Трудно представить Сократа, к примеру, всерьёз размышляющего об образовательной стратегии или о перспективах социально-экономического развития Афинского государства. А ведь он тоже жил в переходную эпоху, во времена Пелопоннесской войны, когда, казалось бы, актуальными были любые суждения о патриотизме, гуманизме, о необходимости объединения греков. Он же вместо этого занимался прояснением, анализом и определением понятий, то есть постижением идеального и абсолютного. Но в этой его совсем неактуальной деятельности современники увидели нечто более заслуживающее внимания и опасное для себя, чем происки действительных недоброжелателей Афинского полиса.
Сократ, как известно, рассуждал не о любых понятиях, а о важных для его времени. То есть о понятиях, которые, по его мнению, характеризовали современность, были значимы для неё, но сограждане были далеки от них. А жить без понятия, по Сократу, значит жить вслепую. Он – просветительствовал, а не определял пути и перспективы, и полагал, что этого вполне достаточно. Думаю, что и сегодня философы должны заниматься чем-то подобным, то есть прояснять значимые для современности понятия.
К числу таких понятий, как я полагаю, относится «видимость». В истории культуры отношение к этому понятию было различным. В европейской традиции существовало убеждение, что видимость – это нечто иллюзорное, искажение истинных фактов, подмена действительности. Философы были иного мнения. Гегель писал о ней: «Видимость – это не ничто, а рефлексия, соотношение с абсолютным; иначе говоря, она есть видимость (Schein), поскольку в ней отсвечивает (scheint) абсолютное» (подчёркнуто Гегелем – В.П.) [1, с. 175]. Поэтому думать, что от видимости можно избавиться вообще, есть по существу иллюзия, то есть та же видимость.
Стремление к обязательному преодолению видимости связано с традицией, со склонностью к линейному видению, которое формируется в культурах, где используется алфавит и мысль выражается посредством цепочки букв и слов. Благодаря линейному характеру нашего мышления видимость понимается и воспринимается как некая завеса, скрывающая сущность. То обстоятельство, что в видимости видят лишь нечто негативное, от чего необходимо поскорее избавиться, свидетельствует об уже сложившейся традиции видимости в понимании данного понятия.
Понятие «видимость» имеет, по крайней мере, несколько значений. Отрицательное, что прежде всего связывают с ним, находится не на первом месте даже в обычных – нефилософских – словарях. Изначально оно употребляется в том же значении, что и понятие «слышимость». Но с последним никаких негативных смыслов не связано, ничего такого, что необходимо преодолевать, в слышимости нет. Понятно, что слышимость – это возможность слышать, которая доступна фиксированию, измерению, оцениванию и т.п. Так же и с видимостью: прежде всего она означает возможность видеть что-либо. В таком случае видимость относят к самим предметам, отмечая возможность лучше или хуже их видеть. Видимость также означает и данность какого-то предмета, а также режим, границы его восприятия. Наконец, видимость означает и внешность, преимущественно обманчивую, иллюзорную, то есть кажимость.
Но и в последнем случае видимость может употребляться неоднозначно. Здесь можно сослаться на Канта, который отмечал два значения видимости. В одном из них она может быть названа иллюзией или обманчивой. Но бывает и другая видимость, которую философ называл «играющая». Первая из них – обманчивая – встречается у рыночных торговцев, демагогов, вторая же используется в искусстве. Она не исчезает даже тогда, когда её разоблачают. «Видимость, которая обманывает, – писал Кант, – исчезает, когда становится известной её бессодержательность и обманчивость. Но играющая видимость, так как она есть не что иное, как истина в явлении, всё же остаётся даже и тогда, когда становится известным действительное положение вещей» [2, с. 55]. В конце своего анализа различных видимостей он отмечал: «Поскольку видимость обманывает, она вызывает неприязнь, поскольку же она только играет с нами, она вызывает наслаждение» (подчёркнуто Кантом – В.П.) [2, с. 55].
Следовательно, даже тогда, когда видимость оеазывается лишь чем-то внешним, она всё же является не только обманом, но и игрой воображения, или духа, по мнению Канта. Понятно, что игра духа не ограничивается искусством. Преднамеренно или нет, видимость создаётся практически в любой сфере деятельности. Она возникает, когда наша способность видеть становится видением окружающего мира. Или, говоря иначе, видимость – это сам мир, существующий в качестве нашей способности видеть. Поэтому по-человечески воспринимаемый мир предстаёт как его картина, а невидимое, не данное сразу и непосредственно в познании, в итоге обретает видимые черты. Созидательная деятельность в культуре, в том числе и в познании, представляет собой творчество видимости.
«Угроза» видимости существует всегда, пока мы смотрим на мир, представляя его картиной. Но есть ещё и наслаждение видимостью, как отмечал Кант. А это значит, что человек может стремиться к её созданию ради неё самой, что она может быть для него особым видом гедонизма.
Еще Августин задумывался над странным стремлением людей к миру искусственных страстей, которые тем более вызывают наслаждение, чем менее они кажутся искусственными. Но если страсти, разыгрываемые на сцене, не кажутся зрителю естественными, то они не вызывают наслаждения. Следовательно, дело не в искусственности страстей, она может только лишь раздражать. Дело в ином: страсти должны быть видимы. И нас действительно волнует именно видимость наших собственных страстей, которые в повседневной жизни невидимы для нас, бесстрастных. В том и состоит очарование вымысла, что в действительности мы бываем очарованы самим видом того, чего без вымысла видеть не можем. Именно то, что обычно ставится «в вину» видимости, является самым притягательным в ней: возможность видеть свой внутренний мир и, следовательно, утверждаться в его реальности. Ещё больше мы утверждаемся в этом, если в связи с вымыслом чувства, подобные нашим, испытывают и другие люди. К объективности того, что обыкновенно существует лишь как субъективное, человек относится как к чему-то высшему именно потому, что внутренне склонен считать свою субъективность выше всего самого объективного. Возможность видеть свою субъективность служит для него подтверждением её неслучайности, в этой возможности он, в конечном счёте, видит и собственную цель.
Все видимое для человека служит и видом его цели[1]. Поэтому человек склонен удовлетворяться видимым. Неудовлетворённость наступает вследствие осознания видимого лишь как видимости, когда оно само начинает «жить» собственной жизнью, не предназначенной для него человеком. Таков мир артефактов, в частности – техники, создаваемой человеком для преодоления собственного биологического, как он привык думать, несовершенства. Выражением неудовлетворённости является поиск вида новой цели, завершаемый в видимом, и тоже, в конце концов, осознаваемом как видимость. В этом и состоит динамика культуры. Образно говоря, она представляет собой непрерывно накатываемые на берег сознания волны видимого, которые осознаются всего лишь видимостью невидимого за ними океана.
Таким образом, роль вида в культуре определена тем, что он служит началом целеполагания, в качестве чего, в конечном счёте, выступает видимость. Неудовлетворённость человека своим видом обусловлена сознанием того, что всякий раз он оказывается несовершенным, чем-то внешним для него и кажущимся. Поэтому можно утверждать, что культура – это и есть вид и видимость совершенства человека. Только на первый взгляд, кажется, что культура является облачением, своеобразным одеянием человека, позволяющим дозревать ему, слишком рано отошедшему от природного бытия, в относительной безопасности. Кажется, что где-то там, в глубинах культуры вызревает новый человек (сверхчеловек?), который со временем сможет отнестись к культуре как к обветшавшему одеянию, и сбросить её за ненадобностью. В действительности же культура – это изнанка человека, реальность отпущенных им на свободу его помыслов, страстей и влечений. Если это так, то в мире культуры человека искать бесполезно, поскольку вся она и есть сам человек, то есть видимость его внутреннего мира. Она притягательна, как искусство, и она отталкивающа, как все искусственное и поддельное.
Но действительный источник неудовлетворённости не в том, что человек не видит себя совершенным, а в том, что он не находит себя в культуре и уже не может, да и не хочет видеть себя таким, каков он есть сам по себе, вне культуры, представляющей собой процесс непрерывно создаваемой им видимости себя самого. Человек хочет видеть себя в создаваемых им образцах и образах, в ценностях материальной и духовной культуры, но он не может не сознавать, что все они являются лишь его видимостью. Он убеждает себя в том, что ничего кроме культуры ему не нужно, в действительности же он лишь выдает свое нежелание видеть себя непосредственным.
Но почему человек не хочет видеть себя? Полагаю, что ответ прост: он не желает очевидным образом убедиться, что его, в сущности, нет. Его нет в мире культуры, или цивилизации, как сегодня принято думать, поскольку вся она затем и создается, чтобы человек не только не видел себя, но и не обнаружил, что сам по себе он – ничто, а все созданное им, поэтому, – не для него, а для самого созданного. Создатель – не то, чтобы остался в стороне, он просто растворился в своих созданиях и подчинился им. Поэтому, нет человека без культуры. Она есть его вид, но, в то же время, и видимость, которой он оправдывает своё существование. Работают машины, учреждения и организации, как те же машины, множатся инструкции, распоряжения, бумаги, проводятся всевозможные мероприятия. Культура движется, развивается, самоутверждается. Но в этом господстве видимости всё меньше человечности, чуждой уже и самому человеку.
Список литературы:
- Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. Т. 2. М.,«Мысль», 1971. – 248 с.
- Кант И. Тартуская рукопись // Эстетика Иммануила Канта и современность. М.: «Знание», 1991. – 86 с.
[1] Понятие «вид» употребляется здесь не как подразделение в систематике, входящее в состав высшего раздела – рода, а как внешность, видимый облик и образ культуры.[schema type=»book» name=»ВИД И ВИДИМОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ» description=»В статье анализируется важная, по мнению автора, категория «видимость» в культурологии. В соответствии с линейным характером нашего мышления, видимость понимается и воспринимается подобно некоей завесе, ширме, скрывающей сущность. В итоге автор приходит к выводу: то обстоятельство, что в видимости принято видеть лишь нечто негативное, от чего необходимо поскорее избавиться, свидетельствует об уже сложившейся традиции видимости в понимании данного понятия.» author=»Полищук Виктор Иванович» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-02-23″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_25.07.15_07(16)» ebook=»yes» ]