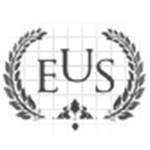Ещё при жизни Д. Шостаковича музыковеды писали об особой роли в его сочинениях мелодических оборотов, построенных на основе тонов, буквенные значения которых составляют инициалы композитора: D-Es-C-H. По выражению А. Климовицкого, монограмма в текстах Шостаковича превращается в символ «утаённости от посторонних глаз авторского «Я» и одновременно – незримого его присутствия» [4, с. 249].
Исследователи (М. Сабинина [7], А. Климовицкий [4]) разграничивают использование мотива D-Es-C-H в основной звуковысотной позиции, с неизменным порядком следования тонов, их равной длительностью и многочисленные варианты, появление которых, во многом, обусловлено спецификой ладового мышления композитора. Они подобны монограмме по графическому рисунку и интервальному составу, но отличаются звуковысотным положением и не получают значения самостоятельных единиц в силу ряда причин, а существуют в музыкальной ткани на семантически более низком (или несемантическом) уровне. Как полагает Климовицкий, для функционирования мотива D-Es-C-H в качестве семантического элемента важными факторами, помимо отмеченных выше, являются его «выгодное» – способствующее яркой и рельефной подаче – композиционное и синтаксическое положение, а также его драматургическая роль [4, с. 252].
Некоторые авторитетные исследователи творчества Шостаковича допускают возможность существования монограммы с неполным комплексом признаков, полагая, что отсутствие или частичное воспроизведение одного из них может быть компенсировано наличием других. Например, М. Арановский называет мотив B—H—As—G, появляющийся в скерцо Пятнадцатой симфонии, «закамуфлированной темой-монограммой», так как его семантическая функция выявляется благодаря драматургической и композиционной позиции [1, с. 79]. Аналогично В. Бобровский видит возможность истолковывать мотив, звучащий в начальных тактах медленного вступления к III-й части Пятого квартета, как монограмму с «пропущенным» тоном «с», который скрыт в мелодической линии второй скрипки (ц. 78-79). В этом случае идентификации способствует синтаксическое положение мотива – начало построения [2, с. 174].
Все, кратко изложенные выше, соображения ведущих отечественных специалистов весомы и бесспорны. Вместе с тем, нельзя считать проблему монограммы D-Es-C-H исчерпанной, поскольку в произведениях Шостаковича нередко встречаются мелодические обороты, в которых последовательность «именных» тонов изменена, однако по ряду признаков они также претендуют на роль авторского знака. Если мы будем иметь в виду, что монограммой называют не только сплетение начальных букв имени и фамилии в виде вензеля, но и любой условный знак, заменяющий подпись на произведениях художников, то появление каких-либо вариантов при обозначении собственной личности автором не должно нас смущать. Известно, например, что на записочках, адресованных В.Я. Шебалину, Дмитрий Дмитриевич подписывался и ДШ, и DShostakovitch, и DS [3, с. 256], а это могло служить импульсом для возникновения иного «нотного образа» собственного имени. Мемуаристы отмечают, что Шостакович обладал незаурядными аналитико-комбинаторскими способностями по отношению к языку, «цепкостью» профессионального видения нотного текста, как природной, так и привитой в годы обучения в консерватории. (Сам композитор рассказывал: «Я <и раньше> любил разбирать досконально, что и как написано. <Это совсем не мешает слушать, наоборот, помогает»> [3, с. 29].
Исходя из этих данных, необходимо признать возможность функционирования в сочинениях Шостаковича в качестве именно авторских знаков мотивов, основанных на различных комбинациях тонов монограммы. Это не просто теоретические предположения. Анализ ряда текстов приводит к заключению, что композитор по-разному преобразует монограмму, меняя порядок составляющих ее тонов. Мы должны признать, что включение Шостаковичем в тексты нескольких своих сочинений одного и того же элемента в неизменном звуковысотном положении, оформленного как мелодический рельеф, закономерно. Задаваясь вопросом о его семантике, необходимо учитывать, прежде всего, два фактора: опору на тоны монограммы (хотя и в иной, но вместе с тем, повторяющейся комбинации) и особое его положение в художественном пространстве каждого сочинения: органично вписываясь в него, мотив – вариант монограммы – словно принадлежит другому измерению. Созданию такого эффекта способствует известная ритмическая и интонационная «обобщенность», нивелированность мотива. Он, не обладая характеристичностью основных тем, воспринимается как, в некоторой мере, самостоятельный, «автономный» элемент. При этом он является одним из звеньев, связующих многие опусы Шостаковича, различные по жанровой принадлежности и концепциям. Следовательно, это служит основанием интерпретировать данный элемент именно как один из вариантов Авторского знака.
Настоящая статья посвящена рассмотрению монограммы и ее вариантов в струнных квартетах Д. Шостаковича. В явном виде последовательность звуков D-Es-C-H предстаёт в Восьмом квартете. Её варианты выступают в качестве основы тематизма каждой части. При этом в одних эпизодах в мотиве-монограмме на первый план выступает линеарно-мелодическое начало (начало I-й части), в других – её звучание приобретает наступательно-механистичный характер (тт. 62-67 II-й части), а иногда она предстаёт в скерцозно-танцевальном, вальсовом облике (III часть, тт. 20-22). Кроме того, монограмма может преподносится не столь рельефно, не сразу обращая на себя внимание слушателей. Например, в I-й части Четырнадцатого квартета её тоны «вплетаются» в ритмически прихотливый танцевальный мотив мелодии первой скрипки (т. 439).
Вариант, довольно близкий к «исходному», встречается в коде II-й части Пятого квартета (тт. 199-208). Здесь, полифонически сочетаясь с измененной основной темой, которая проводится у первой скрипки, дублированной альтом, в партии виолончели звучит выразительная мелодия, рельефно очерчивающая монограмму в более «витиеватом написании». Шостакович не только выделяет виолончельную линию тесситурно, но и подчеркивает ее значимость ремарками «solo» и espressivo. Другой вариант мелодизированной темы-монограммы мы находим в Девятом квартете, где он выписан также в партии виолончели (в тт. 222-226 и в тт. 593-595) выше линий остальных инструментов, и в Четырнадцатом квартете (монограмма появляется в верхнем голосе, в партии второй скрипки, ц. 40).
Более далекий от привычного вида вариант авторского знака функционирует в виде нисходящего поступенного мотива в объеме уменьшенной кварты, основанного на комбинации тонов монограммы Es-D-C-H и оформленного как мелодический рельеф. Варьируясь ритмически, он остается неизменным по своему звуковому составу[1], что позволяет сделать заключение о его закономерном появлении в текстах сочинений, различных по жанровой принадлежности, исполнительскому составу и концепциям. Этот ритмически и интонационно «обобщенный», нивелированный мотив, не обладая характеристичностью основных тем, воспринимается как, в известной мере, «автономный» элемент. При этом он является одним из звеньев, связующих многие опусы Шостаковича, что служит обоснованием для его интерпретации именно как одного из вариантов Авторского знака.
В текстах струнных квартетов встречаются разные его модификации. Например, в экспозиции сонатной формы I-й части Второго квартета (ц. 2) в одновременности сочетаются два различных варианта последовательности «именных» тонов: в партии виолончели она входит в видоизмененный характеристичный мотив главной темы, а в партии первой скрипки её ракоход составляет основу контрапунктирующего голоса, который в силу своего регистрово-фактурного и ритмического оформления звучит достаточно рельефно. Необходимо подчеркнуть, что указанный фрагмент, содержащий кратковременный сдвиг в тональность c-moll, является серединой трехчастной формы главной партии, написанной в тональности A-dur. Как можно предположить, введение участка со столь далеким тональным центром является именно следствием включения варианта монограммы, сама природа которой определяет константность звуковысотного положения составляющих ее тонов.
В других квартетных циклах в процессе экспонирования или развития основных тем, при сохранении первоначальной жанровой характеристичности, также возникают варианты мотивов, включающие тоны монограммы[2]. Например, их немало в Девятом квартете (I часть, тт. 56-59, 1 скрипка; тт. 61-62, 2 скрипка; V часть, тт. 252-257, виолончель в высоком регистре; тт. 404-405, виолончель).
Помимо этого, возможно введение авторского знака в голосе, контрапунктирующем основной мелодии. Так, в I-й части Четвертого квартета одновременно с напевной темой первой скрипки в партии второй скрипки разворачивается линия, содержащая последовательность тонов Es—D—C—H и выделенная крупными длительностями (ц. 9). В случае подобного расслоения музыкальной ткани с возникновением семантически разнородных планов выявляется такая функция монограммы, как Авторский комментарий.
Описанный выше вариант монограммы не является единственно возможным, весьма часто встречается комбинация из пяти тонов: Es-D-Des-C-H. Во II-й части Второго квартета (4 т. до ц. 42) линия альта одновременно и завуалирована верхним (дублирующим в терцию) голосом второй скрипки, и подчеркнута синкопированным движением, а также звучанием инструмента в высокой тесситуре. В третьей части этого же квартета (тт. 83-86) линия второй скрипки, содержащая тоны монограммы и дублируемая в сексту альтом, хотя ритмически идентична линии первой скрипки, но резко диссонирует с ней и с линией виолончели. Кроме того, благодаря ритмическому укрупнению и синкопированию, создается эффект смены метра с трехдольного на двухдольный, что также способствует выпуклой подаче данного участка формы.
В коде I-й части Шестого квартета (ц. 32) появление тонов монограммы в партии альта отмечено общей сменой типа движения (сопряженной с введением иного тематического элемента). «Именная» последовательность подается ритмически укрупнено, при этом композитором выделяет акцентом каждый звук нисходящего хода от тона Es, длящегося шесть четвертей.
Пожалуй, самый оригинальный и скрытый вариант монограммы композитор использует в Шестом квартете. Здесь «именные» тоны собраны в вертикаль и предстают в каденции, завершающей три из четырех частей (I, III, IV) этого сочинения, в следующей комбинации: Es-c—d1—h1. В третьей, си-бемоль минорной, части каденция с «именными» тонами, сохраняя первоначальное звуковысотное положение, также вводится после заключительной тоники, протянутой 3,5 такта. Разрешение в тоническое трезвучие Соль мажора композитор переносит на начало финальной части, следующей attacca. Ее темп Allegretto, но для исполнения каденции Шостакович указывает темп Lento и отделяет ее от предыдущего построения двухчетвертной паузой.
«Удержанная» каденция в сонатно-симфоническом цикле – явление исключительной редкости. Тем более что, с одной стороны, она абсолютно нейтральна по отношению к тематическому материалу частей и не связана с ним ни мелодически, ни ритмически. С другой стороны, – она весьма примечательна в плане гармонического решения (в данной каденции воспроизводится логика оборота VIн.-D67-T). Обращающее на себя внимание бифункциональное созвучие занимает полтора такта звучания, из которых четыре четверти длится комплекс, образованный тонами Es—C—D—H. Он содержит в себе две больших септимы, в силу чего обладает специфическим фонизмом и особой экспрессией.
Шостакович, используя комплекс средств, демонстративно подчеркивает значимость анализируемой каденции, ее особую информативность, и, вместе с тем, ее совершенную обособленность от интонационных процессов каждой части цикла. Её местоположение – условно говоря, за пределами каждой части – как бы указывает на пребывание обозначаемого ею образа в ином времени-пространстве. Учитывая все особенности оформления, вполне правомерно прийти к выводу о функционировании этой «именной» каденции в качестве авторского знака.
Соотношение отмеченных разновидностей монограммы с основным тематическим материалом (и соответственно их положение в фактуре) различно: возможно включение «именных» тонов в инициальный мотив, в вариант основного мотива в процессе экспонирования или развития темы, в голос, контрапунктирующий основной теме, в одну из линий хоралоподобного построения (иногда весьма краткого), возможно даже их «свертывание» в вертикальный комплекс. При этом наблюдается следующая закономерность: будучи элементом самостоятельной, яркой темы, последовательность тонов монограммы в меньшей степени выявляет авторское присутствие в художественном пространстве сочинения, нежели в иных случаях – когда она образует мелодически нейтральный участок. Таким образом, для функционирования в качестве знака ей необходима определенная степень жанровой и ритмической нивелированности, «обобщенности». Краткость мелодической последовательности и синтаксическая отграниченность, наряду с умеренным или медленным темпом, либо оформление крупными длительностями, придают весомость каждому тону и обусловливают узнаваемость «слова». Наряду с этим, большей рельефности знака служат особые фактурные и регистровые условия (момент введения комбинации тонов монограммы нередко подчеркивается посредством резкой смены типа движения и фактурной организации), а также специальные средства акцентирования: контраст, высокая тесситура инструмента, динамика, особенности звукоизвлечения, повторы, ремарки, указывающие на выразительность исполнения.
Важную роль в маркировке включенных в музыкальную ткань вариантов монограммы выполняет ладогармонический фактор, поскольку в авторском знаке, как правило, принципиально сохраняется абсолютная высота составляющих его тонов, независимо от тональности данного произведения или раздела формы. Монограмма «вписывается» композитором, помимо наиболее естественного для неё c-moll’я, также в другие тональности[3]. Кроме того, голос, включающий в себя комбинацию «именных» тонов, нередко гармонически «противоречит» окружающим голосам, поэтому возникают переченья, резко диссонирующие созвучия, что способствует его более яркой подаче. Именно так оформлены соответствующие участки в разработке III-й части Второго квартета (т. 193), где в линии первой скрипки и виолончели одновременно звучат тоны «h» и «b», а также на близком расстоянии в партиях скрипок встречаются тоны «e» и «es».
В V части Девятого квартета в партии второй скрипки в контрапункте с основной темой части возникает еще одна комбинации именных тонов: H-C-Cis-D-Es (ц. 60; тт. 70-71). Подобный вариант встречается в IV-й части Десятого квартета (в партии первой скрипки в тт. 52-53 и тт. 59-61; похожие варианты, но в другом ритмическом оформлении – в тт. 251-252, 296-297). Это указывает на известную автономность в фактуре данных элементов, служащую одним из средств создания драматургической многоплановости.
Примечательно, что композитор, вводя этот знак на разных композиционных участках и в партиях всех инструментов, в основном все же закрепляет его за тембрами альта и первой скрипки и, как правило, различными способами акцентирует на нем внимание. Так, в экспозиции побочной партии I-й части Третьего квартета момент введения мотива, включающего тоны монограммы, отмечен обновлением фактурной организации и инструментовки: мелодический рельеф поручен альту и подчеркнут ремаркой espress. (4-2 т. перед ц.8 или тт. 77-79). Кроме того, линия альта расположена в фактуре таким образом, что в данном фрагменте превышает по тесситуре линию второй скрипки (в партии первой скрипки – 3 такта пауза). В разработке I-й части Второго квартета положение мотива-варианта монограммы в музыкальном пространстве аналогично: он проводится у виолончели в высокой тесситуре, над всеми остальными голосами и звучит на fff (ц. 20, альт). Подобное оформление, но в другой динамике (на p espress.) получает мотив монограммы в III-й части Восьмого квартета (тт. 153-161 и 169-176).
В некоторых случаях интонационные знаки в квартетах Д. Шостаковича комбинируются друг с другом (и по горизонтали, и по вертикали). Так, в I-й части Седьмого квартета (ц. 8) вариант монограммы появляется в партии первой скрипки, при этом в продолжении нисходящего движения по полутонам он плавно переходит в фигуру passus duriusculus. Интересно, что фигура нисхождения дублируется у второй скрипки и альта, разворачиваясь несколько иначе у каждого из инструментов. В Восьмом квартете Д. Шостаковича дважды возникает объединение темы-монограммы и ее варианта. При этом, в I-й части синтез образуется по горизонтали (т. 11 – ц. 1), а в V-й – по вертикали (ц. 65).
Таким образом, мы убеждаемся, что выявленные варианты монограммы, даже если они не всегда сразу различимы на слух, будучи скрытыми в звуковом потоке, неизменно оказываются предметом особого внимания композитора. Данный факт также подтверждает их немаловажную роль в музыкальном тексте. Конечно, эта роль обусловлена художественным содержанием, уникальным в каждом из упомянутых сочинений, что требует специального рассмотрения. Вместе с тем, правомерно предположить, что семантика авторского знака в самом широком смысле всегда связана с идеей обнаружения Автора как участника событий, как «двойника» Лирического героя, либо с обозначением духовного плана Авторской личности через введение своеобразного лирического отступления, комментария-оценки.
Список литературы:
- Арановский М. Пятнадцатая симфония Д. Шостаковича и некоторые вопросы музыкальной семантики // Вопросы теории и эстетики музыки, вып. 15 – Л.: Музыка, 1977. 151 с.
- Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. – М.: Советский композитор, 1961. 257 с.
- Дворниченко О. Дмитрий Шостакович. Путешествие. – М.: Текст, 2006. 575 с.
- Климовицкий А. Ещё раз о теме-монограмме DEsCH // Д.Д. Шостакович. Сборник статей к 90-летию со дня рождения / Сост. Л.Г. Ковнацкая. – СПб.: Композитор, 1996. С. 249-268.
- Найко Н. О некоторых комбинациях тонов монограммы «D-Es-C-H» в сочинениях Дмитрия Шостаковича // Музыкальная жизнь. 2011. №7. С. 85-87.
- Найко Н.М., Осипенко О.А. Д. Шостакович. Струнные квартеты 40-50 гг.: интонационные и драматургические особенности. – Красноярск: Красноярская государственная академия музыки и театра, 2009. 224 с.
- Сабинина М. Шостакович – симфонист. – М.: Музыка, 1976. 477 с.
[1] См. об этом статью Найко Н.М. [5].
[2] Квартет № 3, V часть (ц. 99, 1 скрипка; тт. 47-49 – альт); Квартет № 7, I часть (тт. 192-193, 1 скрипка); Квартет № 8, I часть (т. 67-70, 1 скрипка, 2 скрипка); Квартет № 10, I часть (4 т. до ц. 7, 1 скрипка); Квартет № 10, III часть (тт. 25-29, 1 скрипка); Квартет № 10, IV часть (т. 74-78, альт; тт. 173-174, 1 скрипка; т. 381, 2 скрипка); Квартет № 11, I часть (тт. 26-28, 2 скрипка); Квартет № 12, I часть (тт. 44-45, 1 скрипка); Квартет № 12, II часть (тт. 62-63, 1 скрипка); Квартет № 13 (т. 253, 1 скрипка); Квартет № 14, I часть (ц. 27, 2 скрипка); Квартет № 15, I часть (т. 64-65, 1 скрипка).
[3] В C-dur, G-dur (Квартет № 6, 1 ч.), e-moll, D-dur (h-moll) (Квартет № 4, 1 ч.), A-dur (Квартет № 2, 1 ч.; Квартет № 3, 5 ч.), E-dur (Квартет № 3, 3 ч.), B-dur (Квартет № 5, 1 ч.), Es-dur, a-moll (Квартет № 2, 4 ч.), g-moll (Квартет № 2, 4 ч.), es-moll (Квартет № 2, 3 ч.).[schema type=»book» name=»МОНОГРАММА D-Es-C-H И ЕЕ ВАРИАНТЫ В СТРУННЫХ КВАРТЕТАХ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА» author=»Найко Наталья Михайловна, Осипенко Олеся Александровна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-05-05″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 28.02.2015_02(11)» ebook=»yes» ]