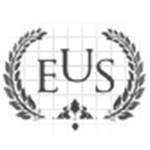Авторское внимание и интерес к языку, рефлексия по поводу творческого процесса становятся характерны для литературы XX века. Однако отношение к языку у С. Д. Кржижановского (1887 – 1950) представляется несколько иным, хотя и отвечающим основным тенденциям в культуре того времени. Оно частично отражено в его литературоведческих статьях для «Словаря литературных терминов» (В 2 т. Изд. Л. Д. Френкель. М.; Л., 1925). Так в статье «Читатель» возникает одна из ключевых в прозе писателя идей о соотношении имен и вещей, которые под этими именами существуют: «Постепенно восприятие автора переходит из эпохи сказа к эпохе глаза: звуки слов немеют и закрепляются условными буквенными значками. <…> Самые буквы вытесняют вещи, ими обозначенные…» [5, с. 691]. В статье же «Черновик» выражено представление о действительной жизни текста в динамике: «Но постепенно легенда об «окончательности» текста, как бы отменяющего своей завершенной «оттиснутостью» беспокойно движущиеся, борющиеся за бытие буквы черновика, стала терять свою убедительность» [5, с. 690]. Исследование авторского отношения к языку представляется крайне важным для понимания творчества С. Д. Кржижановского.
В рассказе «Якоби и “якобы”» (1918) впервые в пределах сборника «Сказки для вундеркиндов» возникает мотив, презентирующий элементы текста, в данном случае – слово, в качестве самостоятельных единиц. Такой художественный эффект достигается крайней степенью персонализации, введением слова в художественный мир наравне с другими персонажами. Переход слова «якобы» из области умозрительного «книжного мира» («В этом сафьяновом томе росло я среди амфиболий…» [4, с. 109]) в область мира эмпирического («Это произошло в ночь с 12 на 13 февраля 1811 года в Мюнхене» [4, с. 107]) оказывается здесь мотивом, выполняющим сюжетообразующую функцию. Субъективация «якобы» в рассказе создает равенство человека и слова, сталкивая две точки зрения в качестве равноправных: «Так два «я» – «я» в кавычках и просто я – созерцали друг друга с минуту» [4, с. 108]. То же явление отражено в отношении «слово – автор»: будучи порожденным Кантом («отец мой – Кант…» [4, с. 108]), слово тем не менее становится равным своему творцу, и даже становится со-творцом: «Когда мы с Кантом обдумывали нашу «трансцендентальную аналитику»…» [4, с. 111].
Следующим шагом в определении природы слова становится соотнесение его с миром: «Я – сумма всех человеческих смыслов; маленькое слово, умеющее своими буквами покрыть весь этот мир феноменов…» [4, с. 108]. В таком тождестве обнаруживается крайняя степень обобщения – представления мира как слова: «…мир – это длинная, скучная опись вещей давно утраченных, погибших…» [4, с. 113]. Важно, однако, подчеркнуть, что акцентирование словесного «всемогущества» постулируется только с позиции самого слова «якобы»: все реплики на данную тему принадлежат ему.
Слово представляется и как единственный способ мысли о мире, что выражается в единстве философии и филологии. Это соответствие находит себя во внутренней форме слова «филология» (этимологическое объяснение еще раз обнаруживает вербальную природу всей человеческой жизни): «Слово «филология» значит «любовь к Логосу»…» [4, с. 113]. Таким образом, сама философская мысль как попытка понять мироздание коренится в языке: «Если Вы, метафизики, чья жизнь овеяна острым и пыльным запахом тлеющих книг, шелестом страниц, исчерченных словами…» [4, с. 110].
Специфическую роль в данном случае играет библейский контекст, отсылающий к представлению о божественной природе слова (Евангелие от Иоанна, 1:1). Слово «якобы» также признается некой силой, внеположной человеческому миру. Теургическое начало его проявляется в отношении ко времени: «якобы» доступны все временные планы, оно говорит о прошлом, которое было до его «рождения» в работе Канта («…когда Картезий, сидя неподвижно у тлеющих углей камина, думал: «Cogito – ergo – sum», – хорошенькая голландка-прислужница (мне доподлинно это известно), сунув нос в дверь, тоже подумала…» [4, с. 115]), о настоящем, отдаленном в пространстве («…пока мы здесь мило болтаем, небезызвестный тебе господин Гегель, сидя в своей казенной квартире, в Гейдельберге, знай себе пишет…» [4, с. 114]), о будущем («На севере родится мыслитель <В. С. Соловьев>: вся жизнь его будет порывом к выходу из узких русл…» [4, с. 112]; «Да, мы говорим (верь, не верь – как угодно) на языке философии будущего…» [4, с. 118]). В наиболее возвышенные моменты речь «якобы» приобретает стилистическую окраску, свойственную библейским текстам; в ней возникают библейские аллюзии: «Верь (извиняюсь за 5 секунд пророческого пафоса): «Грядет вера с севера и возглаголят языцы: се вера!» [4, с. 118]; (ср.: «Всех бо сих языцы ищут…» (Евангелие от Матфея, 6:32), «…се, Царь твой грядет…» (Евангелие от Иоанна, 12:15)). Сопоставление слова «якобы» с богом происходит и за счет введения евангельского сюжета, в котором «якобы» «замещает» Христа. На знаменитый вопрос Понтия Пилата «Quid est veritas?» («Что есть истина?»), заданный в рассказе философом Якоби, «якобы» отвечает словами Спасителя: «Vir qui adest» («Муж, здесь предстоящий»). Затем же оно несколько кощунственным образом, раскрывая анаграмму, сводит сакраментальный ответ Мессии к словесной «шутке»: «Ответ этот приготовляется следующим образом: берутся буквы вопроса q, u, i, d и так далее и переставляются в ином порядке (разнообразия ради). Работа кончена: верующие благоговеют – философы истолковывают» [4, с. 116]. Игра слов организует практически весь текст рассказа. Уже в названии возникает каламбурное соединение фамилии философа и слова, основанное на частичных графическом и фонетическом сходствах. Далее каламбурность возникает и в рамках целых предложений: «Но источник явления нахожу я в лени “я”» [4, с. 109]; «Печать тления оттиснута на впечатлениях…» [4, с. 109]. Например, Лебенихтская кирка, упоминание о башне которой встречается в кантовской «Критике разума», остроумно превращается в «Leben nichts’кую» (нем. «Leben» – «жизнь», «nichts» – «ничто»). Каламбурность наполняет текст рассказа, представляя мир как словесную игру. Однако эта игра становится основой мироздания. Слово, претендуя на божественность истинного Logos’а, создает мир, определяет его судьбу: «Я не хаотический звук, о нет, я точная мера звука» [4, с. 112]; «Мысль Платона не начинала еще своего полета, когда носитель ее был пророчески назван: Платон – πλάτος, то есть Широкий…» [4, с. 112]. При этом, как ни парадоксально, значения слов могут бесконечно множиться, что приводит к потере референта как такового, к отрыву слова от действительности: «Небытие, искусно притворившееся «бытием», разговорчивый нуль…» [4, с. 114]. Проблема невозможности связать язык и эмпирику раскрывается при помощи параллели с новозаветным сюжетом об убийстве Христа. Крест, на котором распяли Богочеловека, заменяется схемой Иммануила Канта, представляющей рассудок в 4 классах категорий: «Итак, двенадцатью нашими категориями мы обвиняем жизнь в феноменальности, то есть в том, что она не отвечает, глуха к нашим постулатам. Человек, это странное двойное существо, мстит категориями за надругательство над постулатами. Взгляни сначала на четыре окровавленных гвоздя Голгофы, а после на семьдесят шестую страницу «Критики разума»: там ты увидишь схему – вертикаль: вокруг крестообразно оттиснуты четыре слова:
Качество Отношение
Количество Модальность
(Помолчав.) Так расправляются со Словом за мир слов» [4, с. 119]. Кантовские постулаты свободы, бессмертия души и бытия божьего [3, с. 466], сформулированные им в «Критике практического разума», являются априорными и недоказуемыми, они не могут быть подтверждены в эмпирическом опыте человека благодаря формам чувственности и не могут быть постигнуты при помощи категорий рассудка: «Но этим не постигается, каким образом возможна свобода и как надо теоретически и положительно представлять себе этот вид причинности, а постигается лишь то, что такая свобода существует, постулируемая моральным законом и ради него. Так же обстоит дело и с остальными идеями…» [3, с. 468]. Такая невозможность разрешения трансцендентальных вопросов при помощи категорий рассудка приводит к «убийству» Бога. Аргументы «якобы», отрицающего бытие Божье и, соответственно, бытие вообще, сводятся к следующей логической цепочке суждений: если Бог есть слово, а за словами ничего не стоит («…вещи погибли, а наименования все еще звучат…» [4, с. 113]), поскольку язык находится вне эмпирики, то и Бога нет. Отсутствие же Бога приводит к осознанию того, что и мир, созданный им, есть не-бытие: «…вообще ничего из ничего, никогда и ниоткуда не следует, что не существует никакого следования, а есть вечное стояние, над которым кружит лишь стая жужжащих слов…» [4, с. 113]. И при таком понимании отношения слова к реальности становится очевиден выбор именно «якобы» в качестве героя произведения: в нем можно найти абсолютное совмещение означающего и означаемого («Во мне ты можешь, наконец, увидеть вожделенное «тожество»: тожество бытия и названия, ибо в моем названии все мое бытие» [4, с. 108]). Однако означаемым здесь является мнимость, фикция: кроме того, что данная частица называет не какой-либо объект эмпирической действительности, а только отношение субъекта речи к сообщаемому, она указывает, прежде всего, на предположительность содержания высказывания, на сомнение в его достоверности.
«Якобы» выступает в рассказе антагонистом истинного Слова, предстающего в качестве Бога-творца, что в рассказе явлено с помощью оппозиции «Logos – mot»: «Вопрос, некогда заданный страдающему Logos’у, я повторяю и тебе – жалкому «mot»…» [4, с. 116]. Природа слова «якобы» («mot’а») оказывается дьявольской, и это подтверждается интертекстуальными связями с романом Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», а именно – со сценой разговора между Иваном Карамазовым и чертом. Диалог между героями Достоевского и диалог между Якоби и «якобы» имеют ряд общих мотивов:
- мотив сомнения в действительности происходящего («Я теперь точно в бреду… и, уж конечно, в бреду… ври, что хочешь, мне все равно…» [2, с. 72] и «…застучала колотушка сторожа. «Может быть, и не сон…» – подумал Якоби…» [4, с. 108]);
- мотив веры («Цель твоего появления уверить меня, что ты есь» [2, с. 80]; «…ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле…» [2, с. 80]; «…ты хочешь уверить меня в своем бытии, подготовляя следующий ход…» [4, с. 116]; «Да, мы говорим (верь, не верь – как угодно) на языке философии будущего…» [4, с. 118]);
- мотив скуки, испытываемой каждым из четырех собеседников (Иван Карамазов: «…мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!» [2, с. 81]; черт: «…ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая…» [2, с. 79]; Якоби: «…там, в самой сердцевине сердца, что-то зевнуло и сказало, как вот сейчас: «Скучно». Это было твое дело…» [4, с. 117]; «якобы»: «Работа кончена: верующие благоговеют – философы истолковывают. Так и во всем. Скучно…» [4, с. 116]);
- мотив пленения чертом («Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня!» [2, с. 80]; «Твой ответ – клетка, в которой я давно уже держу тебя взаперти, вскармливая словами» [4, с. 109]).
Кроме того, роман и рассказ объединены рядом совпадений в характеристиках черта и «якобы»: «Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак…» [2, с. 72], «Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный кошмар» [2, с. 81] и «Что ты лишь игра мозга, четкий кошмар – не более, для меня и так очевидно» [4, с. 109]. В романе Достоевского также возникают евангельское представление о Боге как о Слове и сюжет о распятии Христа: «Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника» [2, с. 82]. Интересно, что черт у Достоевского словоохотлив, как и «якобы» («Ты очень много говоришь (впрочем, в этом все твое бытие)…» [4, с. 113]): объем его реплик значительно превышает объем реплик Ивана Карамазова. Слово для него есть единственный инструмент испытания героя.
Источниками, которыми пользовался автор, здесь могли служить в том числе и трагедия И. В. Гете «Фауст», и пьеса Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста», и сама легенда о чернокнижнике, заключившем союз с дьяволом. Важно в данном случае, что рассказ Кржижановского в основе своей имеет довольно распространенный в мировой литературе сюжет об искушении человека нечистой силой, поддерживаемый евангельским сюжетом об испытании апостола Петра («Пауза. За окном – ало-серый рассвет. Третьи петухи» [4, с. 119]). Однако Якоби выдерживает это испытание: «Я не усумнился, Господи! Ты видишь» [4, с. 119]. То, что философ противопоставляет словам, оторвавшимся уже от божественного источника, позволяет ему не поддаться власти вербального не-бытия, не отрицая при этом «якобы»: «Слова, ушедшие из шумной и суетной жизни в затишье молитвы, не подвластны тебе, Якобы» [4, с. 120]. Молитва, обращенная к Богу, есть слово божественное, живое, постулирующее бытие адресата. И финальная позиция, как наиболее сильная в рассказе, представляет собой именно молитвенный жанр – «клятву Иакова» («sub reservatione Jakobea» – «Если Богу будет угодно»).
В связи со всем вышеизложенным неминуемо встает вопрос о статусе словесного материала самого рассказа: живое это слово или мертвое, божественное или демоническое. В ответ на аргумент Якоби, защищающий молитву и апеллирующий к древнему корню («…bhu̅. Три смысла таятся в этом в старом корне: молитва-рост-Бог» [4, с. 120]), «якобы» предлагает свое слово: «Одни знатоки говорят, что «ἰνδαλμόί» значит «сущности»; другие знатоки утверждают, что «ἰνδαλμόί» значит: «призраки»…» [4, с. 120]. С одной стороны, эта реплика может расцениваться как очередная словесная игра, с помощью которой утверждается не-бытие мира. Однако, с другой стороны, можно предположить, что речь здесь идет о языке художественной литературы, поскольку словом «Ἰνδαλμοί» («Образы») называлась поэма Тимона из Флиунта (Симон Силлограф), греческого философа и поэта. Вероятно, по мысли автора, поэзия в общем смысле слова оказывается на пересечении двух полюсов, между «Logos’ом» (сущим) и «mot’ом» (призрачным).
Список литературы:
- ГаспаровБ. М., Паперно И. А. К описанию мотивной структуры лирики Пушкина // Russian Romanticism Studies in the Poetic Codes. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1979. S. 9 – 44.
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 20 т. Т. 15. Л., 1976.
- Кант И. Критика практического разума // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. I. М., 1965.
- Кржижановский С. Д. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. СПб.: Симпозиум, 2001. 688 с.
- Кржижановский С. Д. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. СПб.: Симпозиум, 2006. 848 с.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 1996. 333 с.[schema type=»book» name=»ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ С. Д. КРЖИЖАНОВСКОГО (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ЯКОБИ И „ЯКОБЫ“»)» author=»Васильева Варвара Дмитриевна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-05-25″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 30.01.2015_01(10)» ebook=»yes» ]