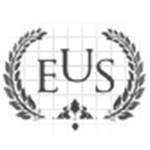Рассказ Саши Черного «Лебединая прохлада» входит в цикл «Солдатские сказки», созданный автором в эмигрантский период творчества. В данном цикле четко актуализируется русская литературная традиция «взаимовлияния письменной и устной словесности» [3], а также обращение к фольклорному началу. А.С. Иванов связывает это с обострившимися в ситуации оторванности от Родины поисками писателями-эмигрантами своей культурной идентичности – поисками, неизбежно устремленными в некое сакрально-идеализированное прошлое, к некой «духовной подоснове» русской жизни, к укладу, «очищенному от обыденщины и скверны» [8, с. 35].
Этот культурный «фон», несомненно, влияет и на образы персонажей в рассказе «Лебединая прохлада», главный конфликт в котором развивается как противостояние образов домового и немца-капельмейстера, возглавляющего полковой оркестр в русском провинциальном городке. Причем оба героя наделены амбивалентными чертами, связанными с динамикой основополагающих ментальных начал «своего» и «чужого».
Так, домовой, с одной стороны, относится к нечисти. Недаром солдаты, чьи вещи он измазал сажей, принимают его за черта: «Никак черт на нашем белье трепака плясал» [10, с. 295]. С другой – он как дух-хранитель дома связан с образом «родного», очеловеченного пространства и является «из всех представителей нечистой силы» «самым близким и понятным народу персонажем» [3]. В этом плане домовой более «свой», чем тот же сказочный черт, связанный с инфернальным локусом. Проказы первого, вызванные нарушением порядка в доме, в корне отличаются от вредительства второго, изначально враждебного людям, о чем в рассказе свидетельствует сам полковой батюшка: если домовой просто отрезает пуговицы у солдатских штанов, то «черт бы пуговки с мясом вырезал, чтобы казенное добро до тла изничтожить…» [10, с. 300]. В подобном смешении «чужих» и «родных» черт и описывается образ домового как сниженная копия человека. У нечисти есть свои спальная («…на чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал – прямо перина») и столовая («харч был готовый – на помойке…» [Там же, с. 299]). Более того, домовой заводит собственный аналог гарнизона с мышами-солдатами, выступая в роли командира: «Набежит мышей прорва, он … на две партии и распределит: которые мыши пешком – пехота, которые на крысах верхом – кавалерия. Хлопнет пяткой о притолоку – знак подает, – пошла война» [Там же]. В этой сценке можно увидеть авторскую насмешку над человеческими войнами, которые, по логике подобия, есть не что иное, как мышиная возня, т.е. сниженное уподобление мышей и людей обоюдно, с той, правда, счастливой разницей, что на мышиной войне солдаты «потешных полков» не умирают по-настоящему. В то же время образ мышиной жизни, пародирующей жизнь человеческую, встречается и народной культуре (вспомним, например, лубок «Как мыши кота хоронили»).
Амбивалентен, кстати, и образ самого жилища, в котором обитает нечисть. С одной стороны, оно имеет негативные черты заброшенности, упадка. Это пустой старый дом, который «стоял без надобности, паутинкой-пылью замшился», до заселения музыкантов в нем «жилым духом» [Там же] не пахло. С другой – дом наделен положительными характеристиками: он «крепкий, просторный» и уютный, поэтому домовой не хочет покидать его ради новых хором («…старый деревянный дом куда способнее, что ж камень своими боками обсушивать…» [Там же]).
Таким образом, домовой выступает как «…прежде всего рачительный и заботливый хозяин… узкого мирка…» [3], защищающий свое пространство и связанных с ним обитателей от вторжения извне: «…мышиную команду уж он не выдавал – ни одного кота в дом нипочем не допустит» [10, с. 293]. Но в отечественной литературной традиции таким же хозяином маленького закрытого уютного локуса выступает и герой-немец. Например, Н.Я. Берковский пишет, что «в русской литературе… хорошо известен тип немца-специалиста… маленького хозяина маленькой мастерской, которая и есть его мир, его кругозор» [2, с. 77].
По сути, конфликт в рассказе сводится к выяснению вопроса, кто в доме хозяин и чей порядок будет в нем – русский (домового) или немецкий (капельмейстера). Надо отметить, что данный «межнациональный» конфликт также пародийно продолжает давнюю литературную традицию борьбы русского (стихийно-хаотического) и немецкого (цивилизаторски упорядочивающего) начал в различных ее вариантах – от иронического противопоставления в пушкинском «Гробовщике» до противостояния в лесковской «Железной воле».
В соответствии с традицией герой-немец в рассказе С. Черного вторгается в отмеченное хаотичностью русское пространство и начинает его упорядочивать на свой лад: «…на малое время… с командой втиснулся, а распорядки заводит, будто он тут и помирать собрался» [10, с. 295]. Немецкая тенденция к упорядочиванию у капельмейстера тотальна – она касается даже музыки (заметим попутно, что немец-музыкант – это тоже литературный типаж). Ее герой не столько создает, сколько делает, словно мастеровой, шлифующий свое изделие. В плане творения капельмейстер не свободный творец, а демиург-ремесленник: «Он… гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал…» [Там же, с. 297]. Домовой-трикстер, пародируя его, наоборот, вводит в прямолинейную музыку немецкого вальса изменчивость, затейливые вариации: «…из-за колодца, из садовой чащобы невесть на чем – ни дудка, ни окарина, невесть кто «Лебединую прохладу» насвистывает… Да с такими загогулинами и перекатцами, что капельмейстеру хочь лицо закрыть» [Там же]. Неопределенность («невесть на чем», «невесть что») и хаотичность (садовая чащоба как пародийный аналог леса, чуждого дому внешнего пространства) противостоят немецкому порядку.
Еще одной типажной немецкой чертой, повторяющейся во множестве произведений русской литературы и связанной с наведением порядка, является страсть героя-немца к чистоте. Капельмейстер характеризуется как «чистоплюй», который «во все углы носом потыкал» (а там, напомним, «паутинка-пыль») и решил извести мышей домового – «…приказал в мышиные щели толченого стекла насыпать. Тварь Божия ему, вишь, помешала» [Там же, с. 297]. Собственно говоря, после этого случая русская нечисть и начинает активно выживать немецкого «чистоплюя». Мотив противостояния между немецким цивилизаторским началом и началом природным выражается также в описании естественного пения соловья, по сути, противопоставленного искусственно созданной «Лебединой прохладе» немца: «Сквозь фортку оркестр соловьиный достигает, – вот поди ж, никто не учил, а без капельмейстера так и наяривают» [Там же, с. 298]. Жизнь домового встроена и подчинена ритмам русской природы: «Особливо ж он весну обожал. Черемуха округ всей крыши кольцом цветет… Соловьи над малинником гремят, звонкий раскат-пересвист из сада… густо наплывает… Вытащит он (домовой – С.Ж.) из-за водосточной трубы… жилейку, да как начнет соловьев подбадривать…» [Там же, с. 294], т.е. домовой-трикстер оказывается тоже не чуждым музыке.
Еще одно противостояние русского и немецкого миров осуществляется на уровне речи. Это черта также отсылает нас к литературной типажности. Как пишут А.В. Жуковская, Н.Н. Мазур и А.М. Песков, «одним из формальных, внешних признаков противопоставленности немца русскому является его речь. В русской беллетристике немец часто говорит на ломаном русском языке, с фонетическими и синтаксическими нарушениями…» [7, с. 40]. Так, в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» доктор Герценштубе «…говорил по-русски много и охотно, но как-то у него каждая фраза выходила на немецкий манер, что… никогда не смущало его, ибо он… имел слабость считать свою русскую речь за образцовую, «за лучшую, чем даже у русских»…» [6, с. 104]. В этой уверенности в образцовости собственной речи также проявляется регламентирующая интенция в поведении типажного немца. Капельмейстер же из рассказа С. Черного во время репетиции «…через каждый такт музыку обрывал и… прибалтийскими словами солдат камертонил…» (даже в ругательствах прорывается страсть немца к упорядочиванию), вызывая недовольство домового: «Не любят они, домовые, когда кто по-русски неправильно ругается…» [10, с. 294]. В этом неприятии нарушения немцем речевых норм нечисть, однако, сближается с русским рассказчиком, выступает в качестве «своей». Ведь тот также пренебрежительно выражается о капельмейстере: «Обнакновенно немец, – и выразиться по-настоящему не умел» [Там же, с. 296]. Заметим, что здесь ирония С. Черного обоюдонаправленная, поскольку сам рассказчик (авторская маска «мужицкого пустобреха» [8, с. 35]) выражается далеко не литературным языком.
Также следует отметить, что под влиянием трикстера-домового даже немецкая логика становится инверсированной: «Сначала казните, потом выслушайте» [10, с. 299].
Кроме того, в речевой характеристике капельмейстера актуализируется традиционный для народной культуры образ немца как «немого», не говорящего на «человечьем» (русском) языке. Испуганный и взволнованный из-за проказ домового немец или вовсе теряет дар речи, становясь способным только на механическое бессмысленное повторение слов («Залопотал он тут, как скворец, – и слов других не нашлось: «Что значит? Что значит?! Что значит?!»» [Там же, с. 296]), или перевирает русские фразеологизмы, создавая словесных уродцев («Чепуха на барабанском масле!» [Там же]; «На чужой кровать рот не раздевать», «Глухому попу два обеда на ужин…», «За бритого двух небритых дают…» [Там же, с. 299]). Аналогично доктор Герценштубе переиначивает русские пословицы, к которым «…даже очень любил прибегать…» [6, с. 104]: «Если есть у кого один ум, то это хорошо, а если придёт в гости ещё умный человек, то будет ещё лучше, ибо тогда будет два ума, а не один только…» [Там же, с. 105].
Впрочем, в искажении речи кроется не только отличие капельмейстера от домового, но и их сходство. Несмотря на мотив упорядочивания окружающего пространства, образ немца двойственен и также проявляет черты трикстера, только нарушающего порядок на свой, немецкий манер. Эта амбивалентность становится еще яснее, если вспомнить, что капельмейстер – «прибалтийский судак» [10, с. 293], «рижский бальзам» [Там же, с. 300], т.е. родом из остзейских немцев, а не из Германии. Он одновременно и не «свой», и не совсем «чужой», как и домовой, который, однако, все же более «родной» для русского мира. Примечательно, что аналогичную динамику «своего» и «чужого» в юмористической характеристике нечистой силы можно встретить в произведении В.С. Высоцкого «Песня про нечисть», где ведьмы называются «патриотками» и «нашими женщинами», которым противопоставляется трехглавый Змей, «заморский паразит» [4, с. 38].
Сходство образов немца и домового в рассказе С. Черного проявляется через «генетическую» связь этих образов с образом нечистой силы. О том, что домовой до некоторой степени имеет характеристики черта, уже говорилось в начале данной работы. Но и чужак-немец тоже в своем роде черт. Как указывает О.В. Белова, в славянском фольклоре «…представители германского этноса могут соотноситься с демонологическими персонажами. В народной демонологии восточных и западных славян широко распространен образ беса или черта в «немецком» (европейском) костюме» [1, с. 13]. Из народной культуры образ инфернального персонажа-немца переходит в русскую литературу, в которой данная традиция находит свое отражение, в частности, «…в произведениях на простонародные сюжеты: национальность нечистой силы – немец…» [7, с. 49]. Так, в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» черт – «спереди совершенно немец» [5, с. 150]. В рассказе же О. Сенковского говорится, что черти «всегда одеваются» «по-немецки» [9, с. 20].
В образе капельмейстера из произведения С. Черного инфернальные черты, пусть и в неявной форме, тоже присутствуют. Так, немец посылает «к подноготному дьяволу» [10, с. 296] своих музыкантов, причем о них в рассказе также говорится, что «…они, черти, фасонистые, писарям не уступят» [Там же, с. 297]. Облитый керосином из-за озорничания домового, капельмейстер «весь провонялся» [Там же, с. 296] этим запахом, как черт – серой. По той же причине образ немца связывается со стихией огня: «Фитиль в меня вставьте – и лампы не надо…» [Там же]. Кроме того, он, желая избавиться от противника-домового, ставит перед полковым ультиматум: «Или я, или черт…» – и просит провести «официальный панихидный молебен» [Там же, с. 300]. По сути, капельмейстер играет роль трикстера, соединяя и тем самым искажая сакральные обряды, на что и указывает батюшка: «Ни панихидных молебнов, ни молебственных панихид, Иван Карлыч, еще не существует. Может, вы сочините» [Там же]. В словах же городского головы и будущая смерть немца превращается в карнавализованное событие, отличающее капельмейстера от обычных людей: «…я уж по тебе, как помрешь, – панихидный молебен… закажу» [Там же]. Наконец, возглавляемую немцем команду предлагается переселить в особое пространство – бесчердачный барак, в котором домовые «не обитают» [Там же], т.е. место, лишенное духа-покровителя, и, соответственно, не вполне человеческое.
Итак, амбивалентность образов русского домового и немца-капельмейстера в рассказе С. Черного «Лебединая прохлада» реализуется в рамках смеховой карнавальной традиции, подразумевающей смешение высокого и низкого, сакрального и профанного, жизни и смерти, «своего» и «чужого». Эти образы можно представить как сочетание целого ряда бинарных оппозиций: «стихийное – упорядоченное», «природное – цивилизационное», «русское – немецкое», «нечистое – чистое», в которых реализуется базовое для всякой культуры противостояние элементов «своего» и «чужого». При этом домовой характеризуется как более «свой», а капельмейстер – соответственно как более «чужой». В то же время эти образы имеют амбивалентные черты и, наряду с различными, имеют сходные черты: это до некоторой степени чужеродность по отношению к человеческому (в нашем случае – русскому) пространству и, соответственно, принадлежность к нечистой силе / связь с ней. Кроме того, оба занимаются музыкой и имеют свои «команды»: мыши – у домового, музыканты – у капельмейстера. Оба они имеют черты трикстеров. Соперничество же их обусловлено конфликтом за право владеть пространством дома, в борьбе за которое и выигрывает дух-хранитель места, русский домовой.
Список литературы:
- Белова О. В. Мифологизация образа немца в славянской традиционной духовной культуре // Славяне и немцы. Средние века – раннее Новое время. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1999. – С. 10-13.
- Берковский Н. Я. О русской литературе: сборник статей. Л.: Художественная литература, 1985. – 384 с.
- Вербицкая В. «Чистая» сила «Солдатских сказок» Саши Черного о «нечисти» // Сибирские огни. – 2004. – № 7. URL: https://сибирскиеогни.рф/content/chistaya-sila-soldatskih-skazok-sashi-chernogo-o-nechisti (дата обращения: 17.03.2015).
- Высоцкий В. С. Собр. соч. в 4 кн. Кн. 3: Странная сказка. М.: Надежда-1. – 576 с.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. – 920 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 15. Л.: Наука, 1976. – 624 с.
- Жуковская А. В., Мазур Н. Н., Песков А. М. Немецкие типажи русской беллетристики (конец 1820-х – начало 1840-х гг.) // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 34. – С. 37-54.
- Иванов А. С. Театр масок Саши Черного // Черный С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3: Сумбур-трава. 1904-1932. М.: Эллис Лак, 1996. – С. 5-40.
- Сенковский О. Большой выход у Сатаны // Русская фантастическая проза XIX-XX века // М.: Правда, 1991. – С. 3-33.
- Черный С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3: Сумбур-трава. 1904-1932. М.: Эллис Лак, 1996. – 480 с.[schema type=»book» name=»ДИНАМИКА «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» В РАССКАЗЕ С. ЧЕРНОГО «ЛЕБЕДИНАЯ ПРОХЛАДА»» author=»Жданов Сергей Сергеевич» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-05-03″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 28.03.2015_03(12)» ebook=»yes» ]