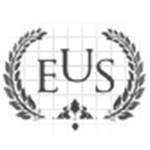Постоянный диалог с гипотетическим читателем – органическая часть повествования – имеет особую художественную функцию в романе английского классика Лоренса Стерна “Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена”. Майк Хардин, один из исследователей стерновского романа, остроумно отметил, что рассказчик с читателем взаимодействует гораздо больше, чем со своей семьей, заключая, что стерновский роман – это книга не о “Жизни и мнениях” Тристрама, а о взаимодействии читателя и текста. Включение читателя в текст, по мнению этого исследователя, позволяет рассказчику управлять чтением текста: “поскольку читатель не существует вне романа”, Стерн сужает возможности последнего в субъективной интерпретации текста. Читатель как неотъемлемое лицо романа становится “действующим лицом в игре, которой управляет рассказчик, и только рассказчик знает правила затеваемой игры” (“…the reader does not exist outside the novel <…> but is a player in a game which the narrator directs and alone knows the rules”) [4,187].
На страницах стерновского повествования живут Мадам (читательница) и Сэр (Благородный читатель): первая не столь сведуща и внимательна, как второй. Вступая в беседу с Мадам, Тристрам общается с ней как с “неподходящим” читателем, пропускающим подробности и намеки повествования. И потому функция Мадам – предупредить Благородного Читателя о том, как не следует читать, и в то же время беседы с ней дают Тристраму возможность показать, что главный для него тот из читателей, который вникает в текст (здесь и далее курсив – О.И.).
Ричард А. Лэнхем указывает на особый характер отношений повествователя с читателем, ибо стернианское повествование – “вид соревнования, не предполагающий никакого конечного результата”. Заведомо не имея возможности когда-нибудь завершить свое жизнеописание, Тристрам не оставляет читателю возможности прочитать всю его “жизнь”, и без определенных границ, обозначающих начало и конец, “роман заставляет читателя переместить его/ее фокусирование на процесс рассказывания, а не на его результат или окончание” (“Richard A. Lanham writes that the narrative is a game, «the kind of contest offering no final result. The game is only over to begin again. <…> Without a definite beginning or ending, the novel forces the reader to shift his/her focus to the process, and not to the product or end”) [4,188].
По наблюдениям зарубежных исследователей, таких как Г. Вернер, М. Нью, Дж. Паркера и др., техника повествования у Стерна включает замораживание движения сюжета, его документацию через графические образы и, наконец, фрагментацию целого. Эта техника используется Стерном, чтобы обеспечить визуализацию повествования и вовлечь читателя в активное взаимодействие с текстом: чтобы заставить читателя видеть модели, рассказчик замораживает или останавливает мгновения. Как наблюдает Флюшэ, можно “едва избежать сравнения с жонглером, управляя огромным количеством предметов, к которым каждый момент добавляются новые причуды, все связано согласно законам тяготения, но каждый артист желает, очевидно, остановиться на секунду прежде, чем он продолжит движение снова” (“In order to make the reader see the patterns, the narrator freezes or immobilizes moments, as Fluchere observes: «One can hardly avoid the comparison with a juggler, managing countless different objects, to which every moment new oddities are added, all bound by the laws of gravity, but which the will of the artist can apparently immobilize for seconds together before he sets them in motion again”) [5,146]. Эти “стоп-кадры” романа представлены как через вербальные, так и экстра-вербальные образы. Рассказчик привлекает внимание читателя к этим остановкам, когда он перемещается от одного фрагмента рассказа к другому, как тогда, когда движение дяди Тоби заморожено посреди вытряхивания его трубки.
В той же самой манере оставляют госпожу Шенди, стоящую в коридоре, ведущему к комнате Вальтера Шенди, где “она слушала со спокойным вниманием и продолжала бы так слушать: – как послушная раба, с Богиней Тишины за ее спиной, возможно, не создала бы более прекрасной мысли для глубины понимания”. Леди представлена, как изваяние из камня или металла, а Тристрам объявляет: “В таком положении я решил позволить ей постоять минут пять: до того момента, пока я не улажу дела на кухне…” (“The lady is seen as if cut in stone or metal, and Tristram declares: «In this attitude I am determined to let her stand for five minutes: till I bring up the affairs of the kitchen … to the same period”.) [там же, 146]. Здесь движение рассказа заморожено, а действие уменьшено до превращения образа в камень. Через эту технику визуализации, как предполагает Ганс С. Вернер, “рассказчик усиливает тот или иной фрагмент” [там же, 146].
Вот почему читатель “Тристрама Шенди” должен принять роль активного участника; он не может быть пассивным потребителем, потому что структура повествования беспорядочная и непростая, а необходимость определения смысла рассказанного мешает читателю завершить процесс осмысления читаемого. Читатель не может быть независимым создателем смысла. Как подчеркивает рассказчик, он (Тристрам) “оставляет многое для воображения читателя”. Подобно археологу, изучающему фрагментированный объект, читатель должен использовать информацию, которую он получил, и в какой-то мере подключить свое воображение, заполнять промежутки и соединять прерывания в цепи сообщения. Но одного воображения недостаточно: чтобы привнести вклад в создание смысла, читатель, подобно рассказчику, должен использовать множество стратегий.
Интенсивная игра с читателем, которого постоянно информируют о многих вещах, прямо не связанных с биографией рассказчика, включает у Стерна и другие парадоксальные приемы вроде чистых или “уничтоженных” страниц текста, мраморных или черных страниц, звездочек, тире и других вербальных символов, когда Тристрам заставляет читателя останавливаться, расшифровывать и рассуждать, почему те или иные слова зашифрованы. Он заставляет читателя принимать позицию персонажей. Иными словами, писатель искусно манипулирует своей читательской аудиторией способами, которые самолично прогнозирует и контролирует.
Мадам–читательница у Стерна является не такой сведущей, как Благородный Читатель, и часто упускает смысл, поэтому ей делаются замечания и её направляют. Такая стратегия служит предупреждением Благородному читателю, как следует читать, вникая в текст. Чистая страница, на которой читатель мог бы изобразить госпожу Водмен так, как она ему представляется, демонстрирует преувеличенную роль последнего в тексте Стерна. Втягивая читателя в роман, Стерн добивается фиксации его внимания на процессе рассказывания, а не на его результате.
Повествователь и читатель в стернианском и лесковском нарративе “Соборян” оказываются в специфических отношениях. Лесков, отказываясь от эротических ассоциаций и двусмысленных намеков, которыми изобилует стернианский текст, строит свои отношения с читателем в зоне прямых обращений и скрытых рефлексий на стернианские приемы. В “Демикотоновой книге” в pandant к черной странице есть чернильное пятно, которое сохраняется пишущим как мемориальный знак пережитых потрясений, но главной заменой стерновских “крестов” и “звездочек” у Лескова становятся кавычки и курсив, воплощающие особую авторскую концепцию чтения и письма, не совпадающую с аналогичной концепцией Стерна, но также создающую риторическую ситуацию.
Впервые на эстетическую информативность кавычек и курсива в “Соборянах” (равно как на сам графический прием) обратила внимание в 1974 году автор статьи — Б.С.Дыханова [1], а спустя десятилетия – её ученики (так, в диссертации И.В.Рудометкина кавычкам и курсиву в “Очарованном страннике” и “Заячьем ремизе” посвящен особый раздел). Если с этой точки зрения посмотреть на бытование курсива в тексте “Соборян”, то подобная графика письма встречается и в слове повествователя, и в слове героев, всякий раз оказываясь контекстуально зависимой.
Курсивом автор передает интонационный нажим в устной речи героя (“…вы так и запишите: “Четвертого июня мир и благоволение…”); курсивом в “Демикотоновой книге” отмечены все хронологические даты (1833 года, в восьмой день февраля, выехал с попадьей из села Богодухова в Старгород…”); Туберозов выделяет курсивом всяческие курьезы и несообразности (“Пишу замечательную и назидательную историю о суррогатах”).
Очень часто курсив употребляется как указание на чужое слово. Говоря о невежестве собственной матери, Препотенский с особым нажимом произносит одно из слов её поминальной записки: “помяни господи раба твоего имрека” и, объясняя опасность, сопряженную с “полицейскими инстинктами” приходского попа (“что это за люди имреки, без имен”), обнаруживает собственную неосведомленность относительно этимологии понятия “имярек”.
Комическая игра смыслов, подразумеваемого говорящим и отрицаемого в цитате, усиливается благодаря комментарию другого лица: “…Он (Ахилла – О.И.) сейчас застучал по столу ладонью и закричал: “Ой, гляди, математик, не добрались бы когда-нибудь за это до твоей физики!” Во-первых, что такое он здесь разумеет под словом “физики”? Цитируя дьякона, Варнава всякий раз интонационно выделяет то, на что, по его мнению, следует обратить особое внимание собеседника: “…Мне комиссар Данилка вчера говорил, что он, прощаясь, сказал Туберозову: “Ну, говорит, отец Савелий, пока я этого Варнаву не сокрушу, не зовите меня Ахилла-дьякон, а зовите меня все Ахилла-воин”.
“Игру слов” обнаруживают и некоторые лексические повторы в диалоге персонажей, например, в богословском споре, затеянном дьяконом по поводу молебна, который карлик отслужил “не тому святому” (“…я в первый раз как пришел по этому делу в церковь, подал записочку о бежавшей рабе и полтинник, священник и стали служить Иоанну Воинственному, так оно после и шло”. – “О бежавшем рабе нешто Иоанну Воинственному петь подобает?”
Неоднократно повествователь прибегает к курсиву в собственном слове, умножая его иронические и коннотативные ореолы. Например: “Молодая политическая дама (Бизюкина – О.И.) была чрезмерно довольна собою, гости застали её, как говорится, во всем туалете”. Другой случай, когда курсивом выделяется “чужое слово”: “И Ахилла, опустив услужающую (речь идет об Эсперансе – О.И.), присел на корточки к окну…”.
В письме Борноволокова к кузине Нине курсивом обозначен намек на известные ограниченному кругу лиц обстоятельства компрометирующего характера: “… просил кузину Нину <…> дать этому подлецу (Термосесов – О.И.) хорошее место в Польше или в Петербурге, потому что иначе он, зная все старые глупости, может наделать черт знает какого кавардаку…”
Иногда курсивом отмечены эмоционально окрашенные повторы (“Ты трус, братец, труc. Презренный трус, понимаешь ли, самый презренный трус, – внушал на ухо учителю Ахилла”); или имеющие комический смысл иноязычные вкрапления в речь повествователя (“Сонная красавица взглянула внимательнее на этот supplement к её пледу и посреди странных бордюрок, сделанных по краям листа, увидала крупно написанное русскими буквами слово “Парольдонер”) или персонажа (“Bon Dien, voila la veritable Russie!”), либо искажения слов, имеющие знаковый смысл (“Это называется борба (дьякон произнес это слово без ь) за сушшествование”.
Совершенно очевидно стремление автора “Соборян” сохранить изустный характер высказываний героев, а также превратить слово в объект изображения и в словесной игре сам процесс словесной коммуникации представить во всей его подспудной сложности и “отзывчивости”, что впервые в литературе осуществил Стерн.
Опыт применения стернианской повествовательной техники в “Соборянах” оказывается эстетически продуктивным, хотя отношения с читателем хроники больше напоминают традиционные обращения, опирающиеся на условность этого приема. Читатель Лескова тоже включается в неопределенное множество, маркированное местоимением “мы”, объединяющим с повествователем: “Очутясь между протопопом Савелием и его прошлым, станем тихо и почтительно слушать тихий шепот его старческих уст, раздающийся в глухой тиши полуночи”. Или: “Теперь волей-неволей повинуясь неодолимым обстоятельствам, встречаемых на пути нашей хроники, мы должны оставить на время и старгородского протопопа, и предводителя и познакомиться совершенно с другими лицами того же города. Мы должны вступить в дом акцизного чиновника Бизюкина, куда сегодня прибыли давно жданные в город петербургские гости: старый университетский товарищ акцизника Борноволоков, ныне довольно видный петербургский чиновник, разъезжающий с целью что-то ревизовать и что-то вводить, и его секретарь Термосесов, тоже некогда знакомец и одноклассник Бизюкина. Мы входим сюда именно в тот предобеденный час, когда пред этим домом остановилась почтовая тройка, доставившая в Старгород столичных гостей…” [2, Ч.2, гл.6, с.181]
Автор “Соборян” не прибегает к эротическим ассоциациям, характерным для стернианского повествования, лишь крайне редко позволяя себе некоторые эвфемизмы, рассчитанные на догадливость читателя, вроде риторического вопроса: “Где-то ты теперь, бедный акцизник, и не чешется ли у тебя лоб, как у молодого козлика, у которого пробиваются рога?” Столь же единично упоминание Ахиллы о театральных петербургских впечатлениях: “Остальная же игра вся по-языческому с открытостью до самых пор, и вдовому или одинокому человеку это видеть неспокойно”.
У Стерна Лесков заимствует главное – ассоциативный метод повествования, когда авторская идеология постигается через стиль рассказчика: многочисленные отклонения от прямой сюжетной линии, осуществляя “разговорное взаимодействие” с читателем, тоже предписывают читателю “Соборян” чтение, как бы не нуждающееся в рациональном интерпретировании, поскольку повествователь видит происходящее и слышит персонажей непосредственно “вместе” с читателем. Тристрам напрямую сравнивает свою риторическую технику с беседой: “Писание книг, когда оно делается умело (а я не сомневаюсь, что в моем случае дело обстоит именно так), равносильно беседе. Как ни один человек, знающий, как себя вести в хорошем обществе, не решится высказать все, – так и ни один писатель, сознающий истинные границы приличия и благовоспитанности, не позволит себе все обдумать. Лучший способ оказать уважение уму читателя – поделиться с ним по-дружески своими мыслями, предоставив некоторую работу так же и его воображению” (“WRITING, when properly managed (as you may be sure I think mine is) is but a different name for conversation. As no one, who knows what he is about in good company, would venture to talk all; — so no author, who understands the just boundaries of decorum and good-breeding, would presume to think all: The truest respect which you can pay to the reader’s understanding, is to halve this matter amicably, and leave him something to imagine, in his turn, as well as yourself”) [3, т.2, гл.XI, с.116].
У Лескова тоже беседуют – и беседуют с разной степенью интенсивности общения на протяжении всех пяти частей хроники его герои, и читатель учитывает их “мнения” в границах взаиморефлексии беседующих, не выходя из круга ассоциаций, задаваемых в зоне повествователя, так как лесковские персонажи в основном не менее простодушны и наивны, чем окружение Тристрама. Но за их наивностью и детской непосредственностью просматриваются мудрость многих поколений и содержание их жизненного опыта.
Список литературы:
- Дыханова, Б.С. Об одной особенности романа-хроники “Соборяне” / Б.С. Дыханова. // Проблемы эстетического анализа литературного произведения. – Воронеж, 1974. Т.142, С. 57–64.
- Лесков, Н.С. Собрание сочинений: в 11 тт. / Н.С.Лесков. – М., ГИХЛ, 1956–1958. Т.4 с.5-320.
- Стерн, Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. Письма: Пер. с англ.А.А. Франковского. Примеч. А.А. Франковского, К.Н. Атаровой, А.Я. Ливерганта/ Л.Стерн. – М.: “Издат. АСТ”, 2004. 835c.
- Hardin, M. Is there a straight line this text? The homoerotics of “Tristram Shandy”// Orbis litterarum. — Copenhagen, 1999. – Vol. 54, N 3. – P. 185–202.
- Werner, Hans С. The Chaos of Tristram Shandy: In Quest of Nonlinear Patterns //A Chaotics Reading of Rainforest, Transparent Things, Travesty, and Tristram Shandy – ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS, Sweden.- 1999- c.131-150.[schema type=»book» name=»Адресат повествователя у Лоренса Стерна и Николая Лескова» description=»данная статья посвящена сравнительному анализу отношений между повествователем и читателем в произведении английского классика Лоренса Стерна и в романе-хронике Н.С. Лескова «Соборяне». » author=»Дыханова Б.С., Овчинникова И.В.» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-04-16″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_30.04.2015_4(13)» ebook=»yes» ]